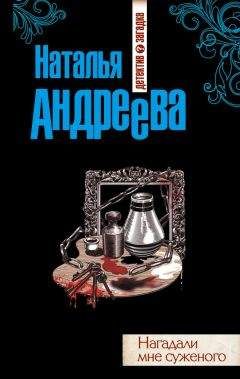Максим Гуреев - Покоритель орнамента (сборник)
Почему?
Да потому, что я знаю, что этого человека уже нет на свете, что она умерла в совсем еще юном возрасте и я ее уже пережил. Осознание последнего повергает меня в панику, еще большую, чем та, которую я испытываю всякий раз перед звучащей фотографией в краеведческом музее.
Попытка понять, почему все происходит именно так, ни к чему не приводит. Я ворочаюсь с боку на бок, изнемогаю от желания спать и одновременно от невозможности сделать это именно теперь, потому что внутреннее возбуждение нарастает. Последнее, на что я способен именно сейчас, так это выбраться из-под одеяла и посмотреть на портрет девочки еще раз.
Посмотреть спокойно, не отводя глаз, прогоняя дурные мысли.
Нет, ее лицо, что и понятно, абсолютно ничего не выражает, она смотрит куда-то в темноту алькова.
Она боялась появления врачей, но когда в конце концов они приехали, было уже поздно. Она умерла.
Это все неизбежность того, что должно произойти вне зависимости от нашего разумения, наших беспомощных попыток что-либо понять и упорядочить, потому что все в руках Божиих.
Я вновь забираюсь под одеяло, где воображаю себе эти руки.
Так, с мыслью о них, я засыпаю.
Голуби спят на жестяном карнизе.
Продавец мидий спит на пляже, укрывшись брезентовым мешком из-под рыболовных снастей.
Дервиши спят под деревом, растущим во дворе текке.
Генерал Топтыгин спит за столом во время ночного дежурства в военкомате, куда приходил ставиться на учет мой отец, находившийся в то время в звании майора. Всякий раз, когда мы приезжали в Евпаторию или в какой-либо другой город, он был обязан это делать, потому что в случае начала вой ны он должен был немедленно прибыть к месту сбора всад ников Апокалипсиса.
Всадник спит на деревянном топчане.
Лошади спят стоя.
Плоды граната, лежащие на серебряном подносе, уснули.
Безногий инвалид продолжает спать на паперти храма во имя огненного восхождения святого пророка Илии.
Восхождение предрассветных сполохов на море напоминает северное сияние.
Каждое сияющее Божее утро две женщины носили на специальных носилках парализованную девочку в грязелечебницу, расположенную на набережной недалеко от военного санатория. Видимо, нести приходилось из старой части города, потому что они довольно часто отдыхали, говорили: «Перекур», – ставили носилки на асфальт, разминали затекшие руки, вытирали платками пот с лица. Одна из таких остановок происходила, как правило, около нашего дома, в тени абрикосовой аллеи.
Гранатовая аллея.
Кипарисовая аллея.
Аллея героев-подводников на городском кладбище.
Так вот, дома я говорил, что иду на море, но на самом деле я прятался за деревьями и наблюдал за парализованной девочкой, накрытой простыней, по которой ползали кузнечики.
Трудно сказать, зачем я это делал. Пустое любопытство? Такое объяснение виделось мне слишком банальным, примитивным, глупым виделось. Тем более что в Евпатории тогда было достаточно несчастных больных детей, моих сверстников, которых привозили сюда в специальный санаторий на лечение, а к чужой, как, впрочем, и к своей боли привыкаешь достаточно быстро, совершенно почитая ее обыденной, а порой даже и желанной.
Может быть, всматриваясь в это бледное, исполосованное дырявой абрикосовой тенью лицо, наталкиваясь на абсолютно безразличный ко всему взгляд, я стараюсь ничего не забыть. Ведь это очень важно – ничего не забыть, все помнить в мельчайших деталях, подробностях, в единственно правильной последовательности извлекать из глубин подсознания точные эпизоды, из которых и состоит бытование. Разумеется, воссозданное в ретроспективе, более чем субъективно.
Когда скисший абрикос попадает в цель, надо говорить: «Пуф!»
«Пуф!» – и жизнь остановилась.
Точнее сказать, потеряла всяческий смысл, превратилась в одно, бесконечной длины воспоминание, в горькое, смертельно обидное осознание того, что ничего нельзя вернуть, повернуть вспять, иначе говоря. Хотя понимание этого является очень важным, глубинным, смыслообразующим, полностью подрывающим основы сиюминутного, суетного бытования.
Все это я пойму много позже, а сейчас девочка неожиданно поворачивается ко мне и закрывает глаза.
Женщины улыбаются.
Женщины улыбнулись и проговорили: «Кончай перекур». После чего они подняли носилки и побрели дальше, а я, стараясь остаться незамеченным, последовал за этой процессией.
Так мы дошли до грязелечебницы.
Всю дорогу она так и пролежала с закрытыми глазами, и даже могло показаться, что она уснула, убаюканная равномерным покачиванием носилок. По крайней мере, со мной, думаю, произошло бы то же самое.
Более того, меня, скорее всего, еще бы и укачало, ведь в детстве меня очень сильно укачивало. Теперь-то я понимаю, сколько хлопот я доставлял своим родителям, да, впрочем, и не только им, этой особенностью своего организма. Порой мне даже казалось, что он, мой организм, живет какой-то своей отдельной, недоступной моему пониманию жизнью.
И вот именно в тот момент, когда происходило трагическое несовпадение внутреннего и внешнего бытования, когда в катакомбах наступала тишина, а на поверхности рвались мины, сыпались, как град, из низких, насквозь провонявших сопревшими водорослями и дохлой рыбой облаков, приключалась война.
Местность приятной войны, когда невидимая брань с самим собой заканчивается победой над самим собой.
Например, двор грязелечебницы, где уже стояла очередь из ожидающих процедуру, вполне мог быть местностью приятной войны.
Здесь носилки ставили на специальный деревянный помост, огороженный фанерной ширмой. Затем за ширму заходили медсестры и снимали с парализованной девочки простыню.
Я отворачивался, хотя ничего бы и не увидел, но все равно отворачивался. Делал это инстинктивно, как инстинктивно всякий раз отводил глаза от портрета дочери хозяйки квартиры, что висел ровно над моей кроватью рядом с круглым, как иллюминатор, окном, безбожно засиженным голубями.
Потом шел к морю.
Место на пляже занимали с раннего утра.
Точнее сказать, загодя договаривались с продавцом мидий татарином Рамилем, который ночевал на пляже, чтобы он накрывал своим брезентовым мешком из-под рыболовных снастей лежак рядом с самой водой, что он и делал. Видимо, за эту услугу ему платили какие-то деньги.
Из мидий, рапанов, белесоватых разводов просоленной рыбы и заизвестковавшейся воблы в тени земляничного дерева Рамиль выкладывал целый орнамент.
Моисей Гелелович степенно расправляет усы и черную бороду с проседью, имеющую название «Виктор Эммануил», прокашливается и начинает громко читать:
«Листья папоротника – суть мудрости и смирения.
Навершия посохов в виде дикириев и трикириев – символ иерархической преемственности.
Бунчуки и павлиньи хвосты – знак воинской доблести.
Зрячие ладони – суть тайновидения.
Верблюды вниз головой и их погонщики символизируют неотвратимость начертанного на скрижалях.
Оранжевые цветы – знак началозлобного демона.
Плод граната священен, потому как содержит 613 зерен, количество которых равно числу заповедей Торы.
Плетенные из бересты восьмиконечные наперсные кресты обозначают праведность и кротость.
Рыбы вверх плавниками и рыбы с глазами – суть молитвенного собрания.
Горящие свечи и кубки для вина символизируют трапезу избранных.
Рипиды, украшенные золотом, – дар владычного достоинства.
Курдючные овцы выпасаемы добрым пастырем, трубящим в медный, оплетенный кожаными ремешками рог, прообразуют смирение.
Сияющие на солнце велосипедные спицы есть символы святости.
А балканские украшения в виде рождественских звездиц восходят к имени императора Александра I, посетившего Большую и Малую евпаторийские кенассы в 1825 году».
Чтение закончено, и я стою по пояс в воде.
Процедура закончена, и парализованную девочку вытирают вафельными полотенцами, перекладывают на носилки, накрывают белой простыней.
Яркий, буквально выжигающий глаза белый свет приемного покоя, белая палата, белые шторы, белые, со следами мушиных колоний потолки, белый кафель, а по белому с желтоватым отливом пластмассовому, напоминающему одиннадцатиэтажное панельное здание трехпрограммному громкоговорителю «Маяк-202» передают программу «В рабочий полдень».
И вдруг девочка открывает глаза и громко спрашивает: «Где он?»
«Кто он?» – недоумевают медсестры и женщины, которые каждый сияющий Божий день носят ее через весь город сюда, в грязелечебницу, на носилках.
«Тот, который был под абрикосовым деревом!»
«Под каким абрикосовым деревом?» – паника нарастает, потому что они не понимают, что девочка спрашивает обо мне. Еще бы! Откуда они могут знать о том, что я всякий раз мысленно сопровождал процессию, примерял на себя ангельские крылья, выступая этаким хранителем, но при этом оставался незамеченным.