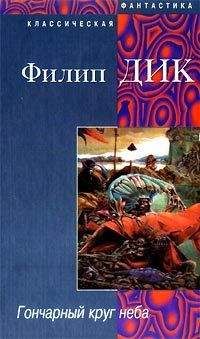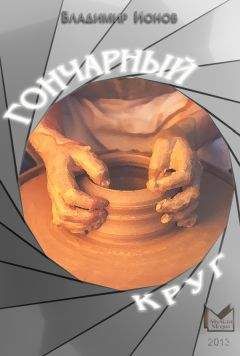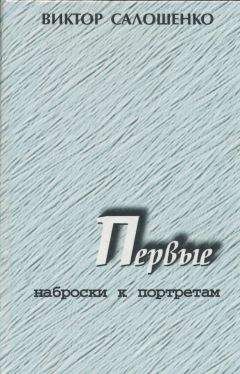Аслан Кушу - Гончарный круг (сборник)
– Стреляй же, стреляй! – бросился к нему Бесо.
И Лия увидела того, кто так всполошил их, человека, шедшего как-то боком и осторожно по-над редким ельником. Пока же Бесо оттолкнул Гочу и бросился к пулемету, тот, заметив их, быстро скрылся в зарослях. Яркие блики от выстрелов потом долго освещали тенистую комнату, а треск в ней стоял такой непереносимый, что Лия даже закрыла уши.
– Ушел, гад! Весь лесок срезал, а он уполз, как змей, – полоумно горя глазами, отпустил гашетку Бесо и сильно ударил по пулемету ладонью.
– Стахан это, – с испариной, выступившей на лбу, сказал Гоча – лучший боец нашего десантно-штурмового батальона в Афганистане. Что же не застрелил его? – зло бросил Бесо.
– Не застрелил? – призадумавшись, озадачился Гоча. И к нему из далекого далека вдруг вернулся розовый от заката снег на Саланге. Их разведгруппа попала в засаду, и уцелели после боя только Стахан и он, раненный в бедро. Стахан взвалил его на себя и горными тропами долго уходил от погони, а потом повалился на этот снег и сказал:
– Жаль, жаль, что у человека нет третьего дыхания…
Враг догонял.
– Скоро стемнеет. Оставь меня и уходи, – попросил Гоча.
А Стахан посмотрел на заснеженную вершину невдалеке, на ложбину от нее, по которой шел к ним враг, и захохотал.
– Уйти? Как бы не так! – и пошел с последней гранатой вверх.
Раздался взрыв, и лавина, обжигая холодным дыханием Гочу, сорвалась вниз. Враг понес большие потери, но не отступил и взял их в плен…
Гоча очнулся от воспоминаний и вновь увидел тупо и дотошно уставившегося в него с вопросом Бесо.
– Стахан был моим другом, – угрюмо ответил ему он.
– Русский? – все также недовольно спросил Бесо.
– Нет, из адыгов.
– А что тогда за имя у этого дикого гуся?
– Это прозвище, – ответил Гоча. – С легкой руки нашего комдива пошло. В Афганистане случалось, что он и один был в поле воин. Вручая награду после такого боя, генерал наш как-то похвалил его: «Неистово воюешь, солдат, как Стаханов в забое работал».
– Но и мы не из виноградной лозы свиты! Посмотрим, что за гусь, – сказал Бесо.
Гоча только грустно усмехнулся. А Лия подумала, что Стахан, наверное, из тех, о ком говорила бабушка, – с любовью в сердце, правдой и сильный духом.
В полдень что-то ухнуло в горах, словно сова в ночи, и Лия увидела, как вспыхнул на сельской площади легковой автомобиль, на котором боевики разъезжали эти дни.
– Не упредили гада, вот и награда! – схватив автомат, выскочил со двора Бесо.
– То ли еще будет, – поспешил за ним Гоча.
Ухнуло повторно, и теперь загорелся танк у кузни Ираклия. Стреляли с ближней кошары на склоне за селом. Туда подтянулись боевики, и там разгорелся бой.
Вечером, не сняв осаду, Бесо и Гоча вернулись домой, ведя под руки раненного в ногу Тамаза.
– Крепкий, однако же, орешек этот твой «шахтер», – призадумался Бесо, обращаясь к Гоче, – кого-то в машине и танке спалил, другие на растяжках при штурме подорвались, а кто от пули погиб. Добрую дюжину бойцов положили, а взять не смогли. Арсенал там у него целый, что ли?
– К таким операциям он всегда готовился основательно, – как-то глубже и глубже уходя в себя, ответил Гоча.
– Да и позицию выбрал удачно, – согласился Бесо. – Не взяли мы ее раньше под контроль, просмотрели. Теперь он в кошаре, за каменной стеной, сзади – отвесная скала, а впереди – мы как на ладони.
– Вам никогда его не победить, – вступила в разговор из соседней комнаты Дзазуна. – Он настоящий нарт! Только нарт может воевать днями один с целым войском.
– Помолчала бы, старуха! – застонал Тамаз. – Не доводи до греха. А узел развязался как-то сам по себе.
– Я во всем виноват, я! – вдруг воскликнул Гоча.
А Бесо словно ждал этого признания.
– Вот-вот, – подхватил он, и горячечный огонек задрожал в его глазах.
– Ты смалодушничал, тебе и отвечать, – поманил он Гочу во двор.
Некоторое время Бесо, жестикулируя, что-то упорно вдалбливал ему, а Гоча не отвечал, опустив голову.
– Ты говоришь, что друг, – потом услышала его слова Лия, – а разве позволительно друзьям убивать твоих братьев? Убеди его, пусть уходит – это наша война, и ему она не нужна.
Гоча почти не спал ночью и ворочался на скрипучей кровати, а спозаранок поднялся и пошел к кошаре. Едва же он скрылся из виду, поспешил за ним и Бесо.
По дороге Гоча вспомнил плен. Стахан и он сидели более двух месяцев в душном и тесном зиндане. Рана его едва зажила, но постоянно ныла. От этого, скудной еды и жажды Гоча совсем ослаб, а Стахан, почти не шевеля губами, насвистывал какую-то мелодию. По негласному договору они уже молчали несколько дней, чтобы не тратить сил, не бередить и без того измочаленные души. Но они были рядом, и присутствие друг возле друга спасало.
– До свиста ли нам, Стахан? – чуть раздраженно нарушил многодневное молчание Гоча.
Стахан тут же смолк и, изобразив на закопченном лице подобие улыбки, указал вверх. Точно так же, как и он, насвистывал над зинданом афганский суховей.
– Иногда важно почувствовать себя ветром, – сказал Стахан, – вольным ветром!
Гоча проникся сказанным, и ему стало как-то необычайно легко. Потом их обменяли на плененных моджахедов, но того состояния легкости и независимости от всего сущего, абсолютной свободы души от тела он никогда более не испытывал.
Осторожно ступая между растяжками, под недоуменными взглядами тех, кто осаждал кошару, Гоча приблизился к ней.
– Ну, здравствуй, друг! – приветствовал его из-за стены Стахан.
– Здравствуй! – ответил Гоча.
– Извини, что не могу показаться и, как бывало, по-братски встретить, – продолжил он, – снайпер ваш больно шустрый и настырный.
Гоча понимающе кивнул и спросил:
– Ты зачем убиваешь наших людей, друг?
– Потому что они стреляют в братский мне народ.
Простота логики и твердость ответа насторожили Гочу.
– Но мы здесь по приказу грузинского правительства, – вяло возразил он.
– А я, Гоча, по зову крови и велению сердца, – ответил Стахан, – потому как с давних пор сам себе правительство. Так, по крайней мере, спокойна совесть. И тебе это в наше смутное время советую.
Гоча присел у стены, которая, показалась ему не просто каменной кладкой, а чем-то более существенным – глухой стеной непонимания. «Неужто, совсем не поймет», – подумал он и стал лихорадочно искать слова, чтобы пробить для общей пользы брешь в этой преграде. Но, не найдя ничего более подходящего, предложил:
– Уходи, Стахан!
– Но как?
– По скале сзади.
– Я не об этом, – пояснил тот. – Уйти смог бы еще ночью. Помнишь, наверное, что я был неплохим скалолазом, хотя и чуть похуже вашего великого Хергиани. Но кто-то же должен остановить вас!
– Каждую крепость когда-то берут. Тебя убьют! – предупредил Гоча.
– Ну, этого, ты знаешь, я никогда не боялся, – ответил Стахан. – Рано или поздно это со всеми случается.
Гоча был подавлен и едва смог сказать:
– Прощай!
– Прощай, друг! – ответил Стахан.
А потом он увидел то, что не было дано осажденному, занятому с ним разговором. На опушке, что находилась слева, метрах в тридцати, появились Бесо и два автоматчика. В молниеносном броске командир преодолел более полпути и точно бросил в оконный проем кошары связку гранат. Последовали его примеру и другие. А Гоча едва успел крикнуть Стахану: «Ложись!», как от первого взрыва его с камнями и землей отбросило, два же последующих присыпали с ног до головы. Он был, словно в могиле, но быстро выкарабкался, в горячке поднялся: голова трещала и горела, будто кто-то стягивал ее обручами, предварительно залив кипящей лавой. Гоча бросил воспаленный взор назад: Бесо и другие через провал в стене тащили окровавленного Стахана…
«Иногда важно почувствовать себя ветром, – мелькнуло в пылающем сознании, – тогда будет необычайно легко!». Потом он пнул ногой одну из растяжек и с поднятой взрывом землей вознесся, вознесся… и стал ветром…
– Ей богу, сам себя взорвал! – говорил потом Тамазу Бесо. – Я четко спланировал операцию, и после наших гранат он был жив, даже на ноги встал. И потом этот взрыв… Нас чуть не отправил к праотцам. Что его заставило убить себя?! Мало ли с кем мы были дружны прежде. Что ж теперь, на откуп им Грузию отдавать? Странный человек…
– В том-то и дело, что человек, – вступилась Дзазуна, – и не странный вовсе, а совестливый, не смог бы жить он с этим после, вот и подорвался.
– Ты бы, старуха, прежде чем встревать в чужой разговор, пошла бы лучше полюбовалась своим нартом, что у памятника валяется, – съязвил Тамаз.
Дзазуна, прежде согбенно говорившая, выпрямилась и ответила:
– И нартов одолевали коварством. Но они не умирают!
– Умирают, да еще как! – хихикнул Тамаз.
– А превращаются в путеводные звезды и увлекают за собой спасенный мир, – не слушая Тамаза, задумчиво закончила она мысль и просветлела.