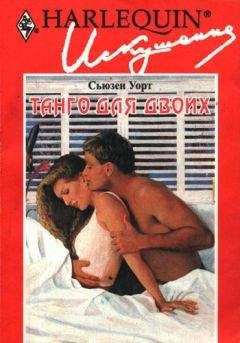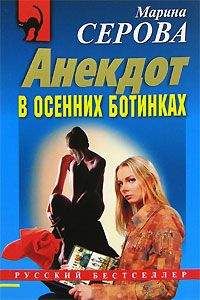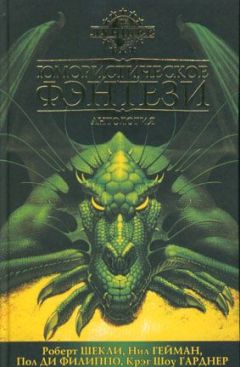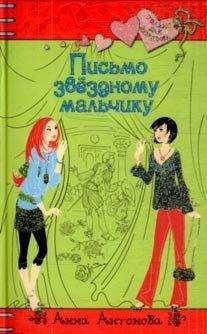Анна Мазурова - Транскрипт
Быстро стало даже и жарко, хотя механизм согревания помещений тоже был традиционный, от испарений множества тел, вызванных страхом за жизнь или младшей его невинной сестричкой «кто и как на меня посмотрит». Через час прекрасных миледи, обнаженных в вечерние платья с плечом, клейменым оспенной лилией, перестало быть жалко – согрелись. Однако в определенных точках подводных течений и через час было лучше все-таки не стоять.
И вот там он увидел это лицо. Рассмотреть как следует было, увы, невозможно: циркулируя в лифте между первым и вторым этажами, он утыкал его в угол, и следующей степенью камуфляжа могла бы быть только железная маска. Однако после двух-трех проездов Муравлеев все-таки углядел, что лицо не несет ни шрамов, ни оспин, ни ожогов… Тогда что же? Мороз-то по коже – отчего? Глядя в его напряженную спину, вспоминал китайцев и негров, водящих лифты естественно и беззаботно: первым легко дается отсутствие всякого выражения, вторым отсутствие всякой мысли, здесь же даже по тем отдельным вылазкам, что лицо позволяло себе из угла, было понятно все, что он думает о каждом сотруднике консульства, каждой жене, каждом госте, и званом и приблудившемся только пожрать. Так что, конечно, начальству, хоть внешне это вроде бы и негуманно – поставить пожилого человека в угол, как мальчика коленями на горох – ничего больше не оставалось. Не занимать же ставку ценного сотрудника китайцем? Ты вот стоишь и не можешь понять, в чем дело: ожоги? шрамы? дескать, мороз чего-то по коже, нетоплено тут у вас…. А он твоего лица и спиной никогда не забудет, мельком глянул и мерку снял, ибо еще сойдешься ты с ним на узкой дорожке, и вот тогда он тебе припомнит, как битый небитого вез. Сознайся, Муравлеев, хотелось же рухнуть перед ним на колени и пропищать, что ты не нарочно, что тебя охранники не пускают шляться по лестницам в учреждении, а так разве б ты его затруднил?
На лифте каталось умение отделять вечное от невечного, приевшийся афоризм о не путать первого со вторым, и уж этот, видели вы, первого со вторым не спутает, в горячий зал поперед осетрины не сунется. Сегодня здесь, завтра там, было написано на его обезображенном лице, когда в лифт втискивались расфуфыренные господа и дамы, и все же за этой мыслью стояла глыба – нечто вечное, что никогда не изменится, и, в отличие от миллионов мечтателей, он это знал. На улице зажглись фонари. Район, как уж сказано, был отличный. Проходили высокие джентльмены в кашемировых черных и серых пальто, те самые, эдит-уартоновские, подчас с тростью, или с дамой, или же с тем и другим. Тихо плыл в мягких сумерках аромат хороших сигар, духов и бензина шикарных автомобилей. Муравлеев курил, затягиваясь воздухом большого города, он боялся вернуться туда, где добрые шутки незримого повара, заделанные в пирожок, стучали в висках, как камерная морзянка, отбиваемая в подполе кухни. Он боялся съесть в пирожке какой-нибудь лобзик или веревочную лестницу. В темноте смягчились все контуры, только лифтер, по мере того как пьянели гости, становился трезвей, вырисовывался все четче – видимо оттого, что с темной улицы входишь в ярко освещенную кабину, – будто начиналась его настоящая, теневая, ночная, жизнь, в которой философу снится, что он бабочка, а Абадонне, что он лифтер. Зато уж и искренне каждый проехавший, выскочив, мямлил: «Спасибо!» Он же ответствовал каждому так: – Пжшст.
Как там у Камю? С определенного возраста каждый несет ответственность за свое лицо? Немножко несправедливо, а? А что тогда несет генконсульство? Поставщики серной кислоты? Взыскать с них, взыскать! Депозицию! Я же не из удовольствия быть таким кроил это лицо – а чтоб им понравиться. И вот теперь, когда мне говорят, что я урод, пусть те, кто уговорил меня, что это красиво и современно – пусть они мне заплатят.
– Нет способа это преступление не совершить.
– Да.
– Хотя есть… Перестать делать то, что ты делаешь…
– Да.
– Правда, тогда ты будешь делать что-то другое…
– Да.
– И результат будет тот же.
– Нет.
– Нет? Нет?! Приведите хотя бы один пример!
– А потому, – продолжал он, не дождавшись иного ответа, кроме истеричных всхлипываний эксперта торговой палаты. – Как же вы можете утверждать, что я совершил преступление, не заплатив за тех девчонок и не написав этой несчастной петиции в «ДДП», которая все равно ничему бы не помогла – ведь должны же мы кого-то сажать, в том числе на электрический стул, а за это по всей длине этапа добрые бабы угощают их калачами, ибо каждый, в ком осталась хоть капля совести, понимает, что винтик сидит за машину, в которой другим каким-нибудь винтиком подвизаюсь я…
– Нет, я не могу так играть, – простонала дама с перевязью, без собачки. – Это черт знает что такое. Я не запоминаю и не знаю, что надо говорить: «да» или «нет»…Муравлеев посмотрел по сторонам. Е… Руслан, забившись в угол, смотрел по телефону, кажется, «Аиду» – лаСкальная запись, похвалялся Руслан, недавно ездил и все заснял телефоном – тыкал трубку, экран пищал, дюйм на дюйм, все восхищались, но отдавали назад, и смотреть пришлось самому. Доктор Львив, это меццо-сопрано из другой оперы, доказав, что есть у нее сила воли, успокоилась и наложила в тарелку колбас, пирожков, винегрета и во все это ушла с головой. Озабоченный Павлик, дав отбой, тут же засобирался – видимо, надо бежать, засвидетельствовать там, на месте… Одним словом, тут же все согласились, что игра зашла чересчур далеко.
На прощанье к нему приблизилась девушка с перевязью.
– А что, это очень омерзительно, переводить про разные преступления? Я заметила, вы принимаете очень близко к сердцу.
Муравлеев поколебался. Не оправившись от предыдущей игры… Нет, его дама неисправима. Но уж играть так играть:
– А я не слышу, что они говорят. Для меня это падежи, идиомы, порядок слов, тема, рема, пословицы и оговорки, адреса, калибры, статьи, модели и марки. В общем, есть чем заняться. Мое дело язык.Но в этот раз почему-то прозвучало как «мое дело труба».
Поздно ночью Плюша подвез его к гостинице.
– Они правы, – сказал Муравлеев на прощанье. – Твои друзья, конечно, жестоки, но правы. Я вечно потел, возмущался законами, экспериментами, чьей-то жестокостью, глупой железной машиной, исписал тонны бумаги уставами новых, утопических обществ, но ни разу в жизни не встал из-за рычага… Каждый день приходя и садясь за свое преступление, как за работу…
– Да не было никакого преступления! Ты что, не понял? – уставился на него Плюша (они ничего не придумывают, они отвечают по букве в начале вопроса – пол-алфавита «да», пол-алфавита «нет» – а ты сам, получается, закручиваешь какие-то немыслимые истории! это такая игра!), но Муравлеев не слушал, торопясь оправдаться:
– И их хотел в это втянуть! Дескать, чего вы, врачи, адвокаты, бухгалтеры, программисты – я один, что ли, за рычагом? Нет, Плюша, помнишь тех дур в деканате, что всегда угрожали: «Учитесь в идеологическом вузе, а позволяете себе… прогуливать»? «Учитесь в идеологическом вузе, а позволяете себе… сдавать курсовую работу в таком неопрятном виде»? Они оказались правы, мы с тобой вляпались в такое дерьмо, что порядочным людям и не понять. Я тут видел (на чашке? в витрине?): «The most important decision you will ever make in your life is who you are going to marry». И позавидовал этим… блаженным. Хорошо решать между красным и белым, между республиканцем Додж Караваном и демократом Фордом Уиндстаром, между Машей, Ларисой и… Дженнифер, в какой стране жить, куда пойти учиться… А, между тем, единственный значимый выбор, как праздник – выбор-рычаг, который всегда с тобой…Разыскать бы эту обменную организацию и вырвать ей яйца. Даже искать не надо: вот сидит и играет с тобой в преступление. Однако так просто яйца не вырвешь; чтобы заставить организацию заплатить, надо создать другую организацию по борьбе с той, первой, пустить подписные листы, взимать членские взносы, учредить пару-тройку оплачиваемых должностей, снять помещение, организовать рекламу, предостерегающую граждан от обмена, широко вести просветительскую деятельность, печатать листовки, брошюры, давать интервью, выступать по телевизору…. а там и перевод можно бросить. И среди решений юродивых тут же мелькнуло одно нормальное: ничего не надо делать. Этим мы сразу решаем много задач. Вдруг, сегодня празднуя труса, идиотика, бюргера и безответственную шестеренку, я их завтра спасу еще больше? Если мой бордельный приятель будет каждого защищать, а львица лечить, разве их хватит надолго? И, может, на двух несчастных дур приходится тысяча девушек умных, студенток, сумевших и подзаработать, и утолить познавательный интерес?..
– Да брось! – поморщился Плюша, растирая грудь. – Нельзя так мрачно смотреть на вещи. Ты же слышал, она сказала: рабочая группа через месяц. Я про тебя им тоже напомню. Ничего, работы навалом, надо только уметь искать.
Муравлеев стоял побитый и жалкий.
– Это только игра! – еще раз сказал ему Плюша, хотя очень хотелось домой.