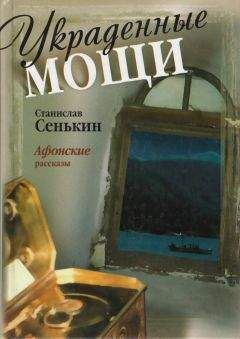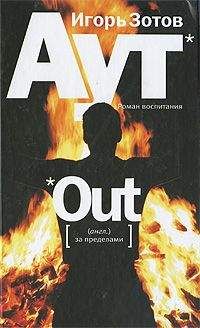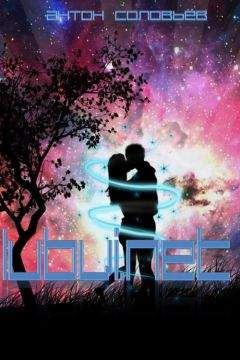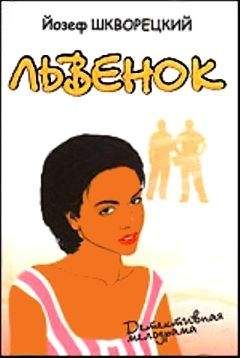Игорь Соколов - Мое волшебное чудовище
Палыч, ты бы прикрыл нас одеялом-то, а то вдруг народ набежит, – попросил я, когда бедная Рыжуха со стоном пошевелилась подо мной. Я приподнялся, а Палыч набросил свою куртку на Рыжуху, а мне отдал свою рубаху, которой я обвязался, прикрыв свои причиндалы.
Вы, Тихон, действительно как ненормальные, вам что, дома что ли никак не сидится, – вздохнул Игорь Павлович, поеживаясь от ночного ветра.
Дома скучно, – неожиданно бодро откликнулась Рыжуха, прижимая к себе его куртку.
Ты встать-то хоть можешь, – спросил я ее.
Кажется, опять что-то с ногой! – пожаловалась Рыжуха.
Игорь Павлович осветил фонарем ее ноги, но вроде никаких поломок ни я, ни он не обнаружили. Тогда он стал трогать то одну, то другую ногу и спрашивать ее, где ей больно.
Палыч, ты бы убрал свои лапы от ног-то, – обиженно вздохнул я.
Дурак, ты, Тихон, – засмеялась Рыжуха и тут же застонала, когда Палыч дотронулся до ее левой ступни.
Кажется, вывих, – сказал он, – надо бы ее к вам в дом отнести. Давай ее осторожно возьмем с двух сторон, и понесем!
Честно, говоря, мне было противно, что Палыч будет опять лапать мою Рыжуху, и тем более оголенную, но другого выхода у нас не было, так что пришлось ее тащить вдвоем. Потом видя, что я ее со своей стороны еле-еле тащу, Палыч сгреб ее в охапку, и понес один.
Вот, сукин сын, всю ее облапал, с тоской подумал я, и тяжко вздыхая, потащился за ними.
А что это твой кавалер так часто вздыхает, – смеялся дорогой Палыч, а сам, негодяй, ей что-то на ушко шептал, а Рыжуха моя тоже заливалась смехом как безумная!
Ну, наверно, этот Палыч и бабник, думал я и кусал свои губы.
Ну, Тихон, ну, подойди поближе, ну что ты все дуешься-то, – попросила меня моя Рыжуха, – нельзя же быть такой злюкой!
Сама ты, злючка! – обиделся я и даже заплакал.
Нельзя, – говорит мне Рыжуха, – быть таким ужасным ревнивцем!
Да, я, Тихон, сейчас только донесу ее до дома и уйду, – сказал мне Палыч, по-видимому, желая как-то смягчить свою вину.
Да, ладно, чего уж там, неси, – смутился я, и пока Палыч нес ее до дома, я всю дорогу целовал ее, кисоньку мою.
Пусть таращится на нас, да завидует, сволочь, думал я, вполне собой довольный!
Между тем, Палыч и не глядел на нас, а нес мою Рыжуху, как какую-то безделицу, и это еще больше возмутило меня, и я ему сказал:
Ты, уж, Палыч, неси ее бережно, все-таки не мешок ведь с картошкой несешь!
А как я ее несу?! – обиделся Палыч.
Что-то ты, мой Тихоня, разбушевался-то?! – усмехнулась моя Рыжуха. – Али с башни упал, и своя башня повредилась?
А я еще больше разозлился.
Ты, – говорю, – дуреха, молчи, а то Палыч чего-нибудь не -то о нас подумает!
Да он и так о нас совсем не– то думает, – смеется Рыжуха, и так заразительно дуреха смеется, что я и сам загоготал, хотя и без особого настроения!
Ну вот, вы и дома, – вздохнул Палыч, поднимаясь с Рыжухой на крыльцо.
Как будто гора с плеч, – вздохнул он, опуская Рыжуху на кровать, а в это время Альма из под кровати вылезла, да схватила его зубами за ногу!
Вот, черт! – заругался Игорь Павлович, а я ее за ошейник изо всех сил оттаскиваю, и кричу:
Альма, нельзя, это свой, – говорю, – дура!
Альма тут же успокоилась, а Палыч сел на лавку свое ранение изучать.
Крови-то совсем почти и нет, – говорю, – а брюки и зашить ведь можно!
Конечно, можно, – смеется Палыч, – только дай мне чего-нибудь вроде зеленки с бинтом, да рубаху мою мне отдай!
Тихон, там, в шкафу, на кухне, – сказала моя Рыжуха и я пошел искать зеленку с бинтом.
Нашел, обратно захожу, а Палыч опять чего-то на ухо Рыжухе моей шепчет, а она опять смеется, дуреха! И он с ней заодно! Вот, сукин сын!
Ты, – говорю, – Палыч, бинтовался бы поскорее, да шел бы отсюда подалее, от греха подальше! – а сам ему рубашку его в руки сую.
Все, Тихон, уже иду, – смеется Игорь Павлович, а сам, сволочь, сидит со своим волосатым животом, и раненье на ноге зеленкой прижигает, а рубашку даже и не одевает, вроде как и не обязательно!
И охота тебе, – говорю, – Палыч, по ночам с фонарем одному ходить?! Или с женой нелады какие?
А это, – говорит, – Тихон, все от философии. Я, видишь ли, все время что-то думаю, хожу, то звезды, то дома спящие разглядываю, и все вроде как в себя глазами впитываю, покоя вроде у всех спящих набираюсь! А что касается жены моей, так она даже одобряет мои ночные прогулки!
Да, ты, Палыч, чокнутый, – смеюсь я, – ей, Богу, чокнутый!
Да все мы, – говорит, – Тихон, безрассудные! Я, вон, по ночам небо разглядываю, а вы ищете себе какое бы местечко для соития облюбовать! У каждой птички, как говорится, свои яички, а у каждого микроба своя зазноба!
А Рыжуха на наш разговор глядя, только смеялась да обнимала меня.
А у моей, – говорю, – Рыжухи, тоже не все в порядке с головкой, она, – говорю, – как в аварии ее шибко зашибло, так совсем ничего не помнит!
Ну и дурачок же ты, Тихон, – смеется Рыжуха, – все-то я помню, и что ты муж мой, и Альму нашу тоже прекрасно помню! Так что не вгоняй меня в краску перед человеком!
Ну, ладно, Палыч, – сконфузился я, – ты уж иди, разглядывай свои звезды на небесах, а завтра уж не позабудь привести к нам нашего дорогого Юрия Владимировича!
Не забуду! – улыбнулся Игорь Павлович, а сам рубаху с курткой на себя набросил, потом пожал мне руку на прощание, а Рыжухе даже ручку поцеловал, негодяй, и вышел.
И вдруг моя Рыжуха разрыдалась.
Ты чего это, – говорю, – кисонька моя, что это с тобой?!
Да, – говорит, – обидел ты меня, то всю дорогу к Палычу ревновал, то говорил, что я дура набитая, у которой память всю отшибло!
Да, что ты, кисонька, – говорю, – из-за ерунды такой разнюнилась! Я же, – говорю, – не виноватый, если Палыч тебя всю дорогу так лапал!
Да не лапал он меня, Тихон, а нес, – обиженно вздохнула Рыжуха, – у тебя-то сил было маловато, вот он и нес меня!
А чего, – говорю, – тогда он шептал тебе на ухо, а ты, – говорю, – смеялась, как ненормальная! Или ты думаешь, я не видел?!
Да, он, – говорит, – дурачок, тебя хвалил, говорил, что лучше тебя я никого на свете не найду! И что для меня очень большая удача, что я встретила именно тебя.
Да, нехорошо как-то получилось, – озадаченно выдохнул я и зачесался опять от нервов, – а почему же ты тогда смеялась?!
Да это от счастья, Тихон, от счастья!
Ой, кисонька, какой же я осел! Какой же я осел! – а сам целую ее, мою родимую, куды попало, лишь бы только не плакала! И минуты не прошло, как она срасно так задышала, голубушка моя и тут уж начал я ее всю собою пронизывать, едва успевая дух перевести, во, как Любовь нас обоих-то проняла, достало ее родимую чуть ли не до самого сердечка, а она мне и говорит:
У тебя, Тихон не писун, а палка волшебная, настоящий, – говорит, – подсердечник!
И тут я почувствовал, что мы с ней и на самом деле два ангелочка, и хотя упали с башни в болотную осоку да жижу, да все равно воспарили.
Глава 30
Фата-моргана в цветущем одуванчиками поле
Неожиданно по пути в деревню Луховицы, мы с Кларой увидели голосующего на обочине врача, знакомого нам Юрия Владимировича Пончакова. Увидев нас, он весь как-то сразу стушевался, и по его лицу было заметно, что он продолжает себя чувствовать перед Кларой виноватым за сестру.
Все еще не нашли?! – вздохнул он, когда мы остановились возле него.
Нет, – грустно улыбнулась Клара, – но уже почти напали на след!
Ну, дай-то Бог! – смущенно улыбнулся он.
А вы куда?! – спросила Клара.
Я к своему другу детства, еду в Луховицы.
Так давайте, мы вас подвезем, – предложила Клара.
Ну, если вам по дороге, то не откажусь!
Ну, конечно, по дороге, – усмехнулась Клара.
Честно говоря, я бы вас и не узнал, если бы не увидел вашей машины, а рядом с вами вашего мужа, – восхищенно прошептал Юрий Владимирович, усаживаясь к нам в машину.
И как вы оцениваете работу вашего коллеги? – улыбнулся я.
На пять с плюсом! – Юрий Владимирович искренне любовался лицом Клары. – Никогда бы не подумал, что Василий Васильевич мог такое сотворить!
Но вы же сами назвали его волшебником! – Клара неожиданно перегнулась через сиденье и поцеловала Юрия Владимировича в щеку.
А мне почему-то хотелось, чтоб вы меня поцеловали в губы, – пошутил Юрий Владимирович, и мы рассмеялись, но через какое-то мгновенье Клара опять перегнулась через сиденье и поцеловала Юрия Владимировича в губы.
И что было в этом поцелуе, страсть, любовь или порочная распущенность, или просто благодарность, я не знал, и от этого жутко страдал. Прежде, до ее операции, я любил Клару более духовно и вроде ни к кому ее не ревновал. Оно было и понятно, что таким ужасным, изуродованным лицом, какое у нее было, вряд ли кто-то мог соблазниться. А сейчас я вдруг почувствовал самую настоящую и унизительную ревность, особенно когда этот злосчастный поцелуй затянулся уже на целую минуту.