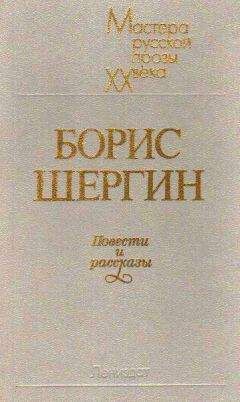Лев Брандт - Пират (сборник)
Арестант вздрагивает, резко поворачивается к двери. Лицо у него стареет и делается злым и неприятным. Одну минуту кажется, что он соскочит с кровати и бросится с кулаками на железную дверь…
Но за дверью не слышно ни малейшего шороха, ни признака жизни, только глаз не мигая смотрит на арестанта.
Стеклышко отражает свет, и глаз тюремщика блестит, как у кошки.
Арестант отворачивается и медленно, нехотя ложится на койку.
Заснул он только перед самым сигналом к подъему. Поднимали задолго до рассвета. От бессонной ночи болела голова, и, как нарочно, в соседней камере что-то приколачивали и громко стучали молотком.
Удары молотка больно отдавались в висках, и арестант морщился.
Когда стало рассветать, повели на прогулку. Получасовая прогулка в тесном закоулке двора проходила всегда удивительно быстро. Но сегодня арестант с нетерпением ждал конца.
На тюремный двор уже начали пачками спускаться голуби.
Турман мог каждую минуту появиться и снова улететь, не дождавшись его возвращения.
Войдя в камеру, арестант одно мгновение не мог сообразить, что в ней изменилось. Ему показалось, что он бредит. Потом вспомнил удары молотка и понял все. Пока он гулял, вставили вторую раму. В первой раме сняли форточку и на ее место наглухо привинтили зимний душничок-вентилятор.
Арестант в шапке и халате стоял у двери, уставившись на вентилятор. Опять громко застучали молотком, но уже в камере с другой стороны.
Арестант сжал кулаки и, чтобы не закричать, до крови закусил губу.
Стук прекратился, потом начался снова, но уж дальше и тише. Во всех камерах вставляли рамы.
Широкая тень, мелькнувшая на стене, привлекла внимание. Он обвел глазами камеру и увидел: с той стороны на подоконнике сидел грязный бесхвостый голубь и черным, немигающим глазом наблюдал за человеком. Арестант посмотрел по сторонам, ничего не найдя, сорвал с головы круглую арестантскую шапку и изо всей силы ударил ею по стеклу. После долго стоял у окна, сгорбившись, с посеревшим лицом, и тупо смотрел на то место, где только что сидел голубь. Потом глухо закашлялся и закрыл лицо руками.
Турман шумно вспорхнул с окна, перелетел в самый дальний конец двора и уселся на карнизе.
Внизу во дворе под окнами сновали голуби. После вчерашней потасовки турман не решился спуститься к стае. Свесив голову, он долго наблюдал за шумной возней и жестокими боями. Потом, отделившись от карниза, он полетел прочь и уселся на верхушке креста.
Дождь уже не шел, но небо все еще от края до края было плотно закрыто тучами.
С Заречья дул и крепчал с каждым часом ветер. Он словно задался целью сорвать и бросить на землю эту куцую, бесхвостую птицу.
Ветер несколько раз сворачивал голубя набок, но он взмахивал крыльями, выравнивался и снова застывал на месте.
К сумеркам поредели и поднялись выше тучи. На минуту вырвалось побледневшее, как будто не успевшее опомниться солнце. Оно скользнуло тусклыми, косыми лучами по голым верхушкам деревьев, по низким крышам зареченских домиков и спряталось снова.
Турман заволновался. Он беспокойно ерзал и топтался на месте, словно холодный металл жег ему ноги, потом, решившись, толчком отделился от креста и ринулся вперед.
Несколькими взмахами крыльев он достиг реки и сразу же, подхваченный ветром, отлетел назад. Сильный встречный ветер подхватывал его, швырял из стороны в сторону, но турман не сдавался и медленно продвигался вперед.
Но чем ближе был берег, тем торопливее становились взмахи крыльев и короче толчки. Турман устал и начал сдавать.
Теперь, казалось, ветер мстил ему за упорство и сопротивление. Он налетал на него, выворачивал крылья, грозил утопить.
Без хвоста, с посеревшими от грязи крыльями, голубь похож был на речную чайку.
Он даже летел, как чайка, ныряя сверху вниз. Новая волна воздуха налетела на него сбоку, сбила с направления и погнала назад.
Турман сдался и уже не пытался бороться. Он мчался по ветру, напрягая последние силы, чтобы не упасть в воду.
Ветер закрутил его так, что крылья голубя коснулись воды, затем поднял вверх, швырнул на берег и прижал к высокому глинистому обрыву.
Турман долго отдыхал, уцепившись за толстый корень, потом по уступам взобрался на берег, вприпрыжку добежал до церкви и только у самого здания рискнул подняться с земли.
Мокрый, измученный, перемазанный в глине, он очутился наконец снова в куполе.
На следующий день, подойдя к окну, арестант увидел голубя. Он сидел на карнизе и казался еще более жалким и потрепанным.
Кроме старых темных пятен грязи, виднелись еще новые, желто-красные пятна глины.
Крошки, приготовленные вчера для голубя, все еще лежали на окне. Арестант открыл во второй раме форточку и через щели в вентиляторе начал выталкивать их наружу.
Турман, увидев корм, перелетел на подоконник.
Арестант, искупая свою вину перед голубем, до отвала накормил его хлебом.
С этого раза ежедневно утром и вечером турман прилетал на подоконник.
Через узкую щель в вентиляторе хлеб приходилось выбрасывать по одному кусочку.
Скоро голубь так осмелел, что, не дожидаясь, пока арестант протолкнет хлеб наружу, сам просовывал клюв внутрь и выхватывал куски из рук. Даже когда арестант ловил его пальцами за клюв, он не пугался, только недовольно дергал головой.
Еще в начале осени, во время одной из прогулок арестанта, за стеной тюрьмы чей-то звонкий голос пел уличную песенку:
Трансвааль! Трансвааль! Страна моя,
Ты вся горишь в огне.
Судя по голосу, пела девочка.
Детский голос еще сильнее напомнил о воле, о собственном ребенке, и арестант, давно не видевший ни одного ребенка и не слышавший ни детского голоса, ни пения, зашагал медленнее, стараясь не стучать каблуками и прислушиваться к песне.
Неожиданно вступил еще один исполнитель. Кто-то свистом вторил певице.
Арестант сразу забыл о строгом запрещении не останавливаться во время прогулки и замер как вкопанный.
Такого свиста он не слышал ни разу.
Трудно было поверить, что это свистит человек. Казалось, высоко в небе кружится какая-то мудреная птица и, подхватив на лету мелодию уличной песенки, людям на удивление, разукрашивает ее таким богатством оттенков и такой чистотой звуков, что хотелось слушать и слушать, затаив дыхание.
Мой старший сын, старик седой,
Убит давно в бою,
А младший сын в тринадцать лет
Просился на войну, —
плакал детский голос и тянул, сливаясь со свистом. И в этой песне звучали большое человеческое горе и подлинная страсть.
Арестант заметил, что остановился он, только когда кончилась песня, и торопливо посмотрел на надзирателя.
Тюремщик, у которого за долгую службу в остроге давно исчезли с лица все следы человеческих чувств, сидел открыв рот, задумчиво улыбался и глядел в одну точку, забыв об арестанте и о службе.
С тех пор эта песня привязалась к узнику. Слов он не знал и, шагая из угла в угол по камере, не переставая насвистывал мелодию.
Прошло несколько дней, а песня все еще звучала в его ушах и преследовала неотвязно.
Свистеть в камере запрещалось.
Тюремные надзиратели не раз грозили ему за это карцером, но он не мог перестать. Скоро насвистывать эту мелодию вошло у него в привычку, он научился свистеть едва слышно, и тюремщики оставили его в покое.
Однажды, когда он насвистывал и кормил голубя, ему показалось, что птица слушает пение. Арестанту пришло в голову приучить голубя брать корм только под звук этой песенки.
С тех пор арестант, кормя голубя, неизменно насвистывал «Трансвааль».
Если голубь просовывал клюв, не дождавшись свиста, арестант наказывал его. Он ловил за клюв и заставлял турмана стоять по ту сторону рамы неподвижно, с вытянутой шеей. Турман скоро стал осторожен и зря носа не совал.
Теперь арестант был уверен, что если даже его переведут в другую камеру, он сумеет приманить туда голубя.
Турман быстро начал поправляться. Прилетая на окно, он уже не сидел нахохлившись, как прежде, а подолгу охорашивался, чистил перья и весело смотрел по сторонам.
Почти ежедневно вместе с ним прилетал серый голубенок.
Арестанта занимала и трогала эта птичья дружба. Он понемногу подкармливал и второго голубенка, но того приручить было труднее, – близко к вентилятору он не подходил, и только после того, как турман наедался, ему доставалось несколько кусочков.
Турман жил в куполе. Он привык к своему месту в углу, но все еще не мог освоиться в стае и держался особняком.
В ясные дни, когда стая перед сном собиралась на крыше, он сидел в стороне от других. Наевшись, он никогда не улетал с подоконника прямо в купол, а летел к стае и ждал, пока голуби полетят на ночлег, и летел за ними.
Летал он теперь так же, как дикие голуби, низко над крышами и выбирая самые кратчайшие пути. И хотя у него начал отрастать хвост и летать ему стало легче, он высоко не поднялся ни разу. Казалось, что после неудачного полета через реку голубь разуверился в своих силах и навсегда забыл, что он турман.