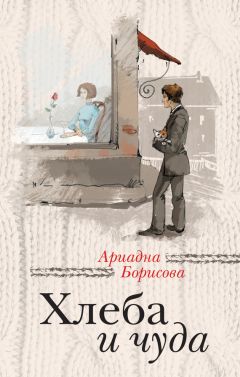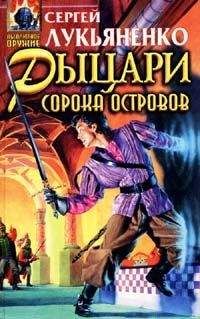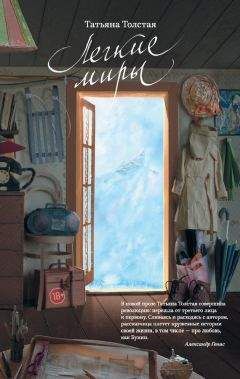Ариадна Борисова - Повторите, пожалуйста, марш Мендельсона (сборник)
– Материал пропадает! – воскликнула впечатлительная Аня. – Напишите, Елена Даниловна!
– Не о чем тут писать, – сказал Роман Афанасьевич. – Событие частное, и девица ненормальная. Вы же, Аня, не стали бы писать о сегодняшнем Ленине? Все психи разные, по-своему, может быть, интересные, но в газете им не место. Вот если бы Елена Даниловна убедилась, что она летает – тогда да! Тогда б я упал перед ней на колени и умолял бы ее свозить к этой Антонине фотокора.
Нелли Сергеевна положила теплую ладонь на запястье Елены:
– Не переживайте. Пусть вы не видели, что она летает, – она наверняка летает. Летали же святые Василий Блаженный и Серафим Саровский. Люди без всяких психических отклонений подвержены сезонным влияниям. Осенью человек хандрит, весной воскресает вместе с природой… Солнце, воздух, простор. Я, как балкон открою, кажется, вот тоже сейчас прыгну и полечу. Только хочется взять кого-то за руку. Вдвоем не так страшно, – она покосилась на руку Николая Ивановича, все еще отбивающую какой-то музыкальный ритм.
– Чепуха, – желчно обронил Роман Афанасьевич. – Весеннее обострение женской глупости.
Нелли Сергеевна посидела, опустив голову, и вышла из кабинета. Кинувшись за ней, Аня скорчила рожицу за спиной секретаря.
– Хами-ишь, парниша, – протянул Николай Иванович. – У тебя, Рома, что, не бывает причуд? Ты не человек – папка ходячая?
– «Не учите меня жить» – читай там же!
Брови заведующего отделом сошлись в одну длинную «чернобыльскую» снежинку.
– Не знаю, как тебе, Рома, а мне утром на редколлегии тоже хотелось отколоть какой-нибудь кандебобер. Сильно хотелось. Тут не то что тиражи – тут последних читателей теряем, лучшие журналисты к частникам бегут, а нам велят учредителя облизывать. И мы лижем, самозабвенно, как весенний кот яйца. В результате наше издание банкрот во всех смыслах.
– На газету кощунствуешь?! – взвизгнул секретарь.
Они встали друг против друга словно два старых всклокоченных петуха. Забыли, что не одни в кабинете.
– Кощунство, Рома, это когда на цветочной выставке ругаются матом. Когда гостиничным полотенцем вытирают свои ботинки. Я тебе сотни таких кощунств могу вспомнить. А в прошлую пятницу я целый час сидел на стуле в приемной Козлова и думал, что кощунство – когда по моей спине вверх карабкаются и плюют на меня же. Я интервью ждал, которое, сам понимаешь, не мне было нужно. Позвонить нельзя, секретарша сказала – занят. А Козлов, оказывается, забыл. Кричит ей: «Галя, что за тупень торчит у тебя, как мой член утром?» И я ушел. Пусть теперь сам явится и ждет моего внимания, как соловей лета. Лично мне, Рома, наша поддержка тех, кто по головам на вертикаль лезет, вот уже где, – Николай Иванович резанул по горлу ребром ладони. – Мне от всего этого отчаянно весело, Рома. Так весело, что я, знаешь, готов прыгнуть на редакторский стол и джигу сплясать. Да эх, не умею, и спина болит. Поэтому, когда учредители снова пожалуют к нам на планерку и по новой начнут нас учить, как надо и не надо писать, я, Рома, не ручаюсь, что штаны при всех не спущу. Давно хочется зад им свой показать во всей его тощей красе, как ответ Чемберлену. И ты не представляешь, как я себя презираю за кукиш в кармане и как жалею, что из-за психической устойчивости могу подавить души моей прекрасные порывы. Хотя иногда думаю: не патология ли это – молча терпеть? Честно признаюсь: завидую я Елениной летающей девушке. Хоть она и ненормальная, а человек не подневольный, независимый и трудится не ради копейки. Пусть даже напрасно. Зато – счастливая. Вот мы с тобой, Рома, безнадежно нормальные, благоразумные до мозга костей, но почему-то не заметили, как целую жизнь профукали ни за грош. То строили светлое будущее, то рынок с человеческим лицом, то демократию с волчьей пастью. Сами теперь удивляемся, куда девалось и счастье наше, и ремесло, и честь, и ум, и совесть нашей эпохи…
– Расплакался, – процедил Роман Афанасьевич. – Разверзлись хляби небесные… Ему, видите ли, мучительно больно и стыдно за бесцельно прожитые… Демагог!
– Стыдно, – согласился Николай Иванович. – И больно, Рома, за себя и за тебя. А если тебе не стыдно, так мне тебя еще и жалко.
– Больше я с тобой, Колька, не разговариваю, – прошипел Роман Афанасьевич и, шумно вздыхая, шагнул к двери. Открыв ее, снова захлопнул и склонился над Еленой с перекошенным от злости лицом:
– А вы… вы! Летаете в эмпиреях! Спуститесь на землю, уважаемая! Где заметка о конференции в Комитете по делам семьи и детства?! Вы на ней не были, что ли? В новостной полосе голяк, ставить нечего, на последней валяются драка, пожар и суицид в десять строк!
За все время работы это был первый нагоняй от Романа Афанасьевича, но Елена не обиделась. Понимала, что подвернулась под горячую руку.
– Стой, Ромка, где стоишь, – встрепенулся вдруг Николай Иванович.
– Чего? – глянул секретарь исподлобья. – Сыт я, Коля, твоими тертыми истинами…
– Погоди, не гунди, – махнул рукой Николай Иванович. – Ты про какой суицид говоришь? Который давеча у тебя на столе лежал?
– Ну да, ты же смотрел, – буркнул Роман Афанасьевич. Краснота понемногу спадала с его лица.
– Елена! Где эта девушка живет, не в Черемушках случайно? Где дома под больничный комплекс сносят?
– В Черемушках… Номер дома не помню, тридцать какой-то с дробью, пятый этаж… Блокнот с адресом у нее забыла…
Тихо охнув, Роман Афанасьевич прижал ладонь ко рту.
– Дела-а, – вздохнул Николай Иванович. – Там одна девушка на днях с балкона улетела. Такая новость в десять строк.
– Как улет-тела? – спросила Елена, заикаясь.
– С-спрыгнула, – тоже заикаясь, сказал секретарь.
Он сам позвонил в пресс-службу ГУВД, откуда ему прислали заметку, и уточнил адрес.
Елена оставила деньги дома, что выяснилось уже на улице. Хорошо, хоть копейки на автобус в кармане завалялись. Склероз грозил вырасти в мегапроблему, но пока не это ее заботило. Сердце заходилось от гадливого ощущения предательства и страшной догадки. Чудились осуждающие взгляды, словно люди знали, чей журналистский цинизм подтолкнул душевнобольного человека к самоубийству.
Облик города становился старше, пасмурнее и монотоннее. Обветшавшее время молодости родителей наложило здесь свой архитектурно-политический отпечаток: следы дум тогдашнего правителя о вечно актуальном квартирном вопросе, в чем страна преуспела. И догнала, и перегнала. Теперь в сотнях тысяч каменных камор по всей стране доживала убогую старость пришибленная новыми временами романтика шестидесятых с убитой верой в высокое и светлое. Не небо.
С двух сторон встречными рядами шагал на обед рабочий народ и пенсионеры с кошелками. Все с озабоченными лицами – прерывистые, беспорядочные шеренги, мрачные в своей безысходности. Или так мерещилось Елене. Она допускала – мерещится. Наверное, в проекции ее вины затенялось все, что попадало в поле зрения. Обычно легкое в ходьбе, тело казалось незнакомо слабым, тонкие мысли возникали и рвались, как после суток напряженной работы. Хотелось спать. Долго, бесцветно, без снов…
Дом был тот и не тот – пятиэтажный, серый, безликий. Клон домов-близнецов в лабиринте одинаковых улиц. Елена неуверенно взошла по скособоченным ступеням крыльца. Не вспомнила, было ли оно подперто бетонной сваей, как это. И тут в сумке запел телефон. Звонила Наташа.
– Привет, ты в редакции? – заговорила она трескучим, искаженным волнами голосом и, не дожидаясь ответа, выпалила: – Экстренное сообщение: я уезжаю!
Заторможенная, Елена прислонилась к перилам крыльца:
– А твоя студия… а Настенька?
– Студия не распадется, передала деток хорошему человеку, он из моих ансамблевых. А Настенька… что – Настенька? У нее дед с бабкой – той, не по крови, зато Славиной законной. Бодрые еще.
– Значит, все-таки надумала? К китайцу?..
– К нему. Может, последнее предложение в жизни, а китайцы отказа не принимают, сразу пускают в расход, – засмеялась Наташа. – Их много, нас много, никто не заметит. Даже если Ваня окажется импотентом, останусь с ним, ничего другого не придумала. Я, Лелька, таких дел натворила, что мне больше в театре не работать и в городе этом не жить… Хочешь, вместе уедем? Квартиру продать не проблема, а там такая, как ваша, даже меньше стоит. Валерка всегда работу найдет, да и ты не промах…
– Что случилось-то, скажи толком!
Наташа захохотала:
– Ты, журналистка, чужих газет не читаешь? Про ленинский юбилей в Театре танца не слышала?
– Так это… ты… ты?!
– Я! – с веселым напором закричала Наташа. – Да, я! Прости за плагиат! Как увидела трибуну на сцене… Живее всех живых трибуна, не знаю, откуда притаранили… Вот, говорю, как увидела ее, так прямо затряслась вся! Театральные наши не знали про оргию, только начальство знало, а мне сам Вова сказал по секрету. Сам пригласил! В качестве не знаю кого. Я сначала не хотела идти, но интересно стало глянуть, как нынче слуги народа резвятся… И давай эти сливки общества подъезжать к театру на «бентлях» и «хаммерах», многие с девочками… Радуюсь, что шикарную прическу сделала в парикмахерской и ноги побрила для новых колготок. Блеск – не поленилась! Вот и все, что мне было нужно. Нам же с тобой, Лелька, фигур своих никогда не приходилось стыдиться – спасибо Калерии Альбертовне! Как Вова начал поздравительную часть – одна ты у меня в голове. Твой танец на трибуне! Пусть я его не видела, а всегда представляла. И вот я вертелась-вертелась – и не сумела себя сдержать. Ах, видела бы ты, как я танцевала!