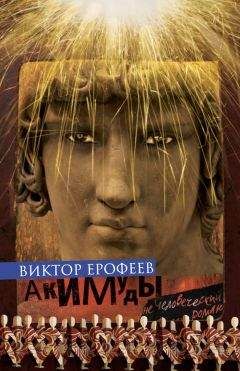Сергей Лебедев - Люди августа
Хлебный запах и острия «колючки» – как одно целое, которого не разложить; щемящее чувство родства.
«Вот это, – подумал я, глядя на колонию, уже отрешившись от наваждения, – и есть советское, его суть, его плоть». Когда от колонии потянуло хлебом, мы почувствовали одно и то же, я видел это по лицам. Значит, это останется в нас. Не коммунистическое, в котором видели главную опасность, а советское сентиментальное наследство будет жить даже в Мусе, Джалиле и Даниле.
Коммунистам надо было позволить выиграть выборы, и они потом победили бы сами себя, исчерпались и навсегда исчезли. Угроза не в них, а в том сочетании колючей проволоки и хлебного запаха, которое заставляет завороженно замереть даже боевиков. Такие образы имеют долгий период распада, идеологические распадаются быстро, а эти – нет. Они живут дольше, поскольку не нуждаются в идее, символах; они больше настроение, чем чувство; и они еще вернутся, ибо никуда и не уходили.
…Черная, слабо светящаяся парой окон, омерзительная из-за силуэтов покосившихся вышек колония лежала передо мной, я должен был испытывать отвращение, но нет – я чуял запах хлеба, и внутри рождалась приязнь.
– Пойдем утром, – сказал Марс, тоже, кажется, стряхивая с себя дурман. – С болота туман потянет. Он приглушит псам чутье.
Утром Кирилла оставили привязанным к дереву, чтобы потом за ним вернуться.
Ранний северный рассвет окрасил розовым клубы тумана с озера, и мы шли в мерцающей мути. Под нами дышало болото, колебался мшаный покров; ледяные капли оседали на коже и оружии, за спинами из-за леса поднималось солнце. Рассвет обрезал все ночные сомнения и наваждения, холод росы требовал действия. И я только успел подумать, что все войны неслучайно начинаются на рассвете – тот, кто нападает, чувствует себя юным и бессмертным, действующим на опережение времени, – как мы подошли к ограде, Муса перекусил колючую проволоку, и мы ступили на чужую землю.
Туман начал рассеиваться; четыре пса, почуяв пришельцев, бежали с разных сторон, – их застрелили Муса и Джалиль; пули оставляли молочный след, испаряя в полете туманную взвесь. Мелькнул пес, молочные трассы настигли его; еще тень – и молочные пунктиры бьют в ту сторону; Муса меняет «рожок», Джалиль страхует, Марс машет – за мной, за мной; налетают собаки, семь сразу, Марс навскидку бьет по ним, а потом, – так вот что за рюкзак тащил Джалиль, – сбоку, прогрызая, изничтожая туман, накатывает, разворачиваясь грозными клубами, язык пламени из ранцевого огнемета.
Дымит спаленная трава, визжат псы, Марс кричит мне: «Пошел!» – и мы бежим, огнемет как бы нехотя, медленно дотягивается до вышек, до бараков, раздается треск сухого дерева, огонь стекает по бревнам, по крышам, Муса стреляет трассерами, фосфоресцирующие пули летят расходящейся дугой, занимается пожар, и с ним что-то занимается внутри, страшное, древнее. Нас всего пятеро, но мы пришли со стороны рассвета, за нами – сила нарастающего утра, мы неуязвимы, пока солнце борется с туманом, наполняя его восхитительным золотым свечением; мы – дошли, мы – нашли, мы есмь огонь очищающий.
Пламя над бараками испаряет туман, открывая небо, небо розово. Огонь – московский огонь, в котором не раз горела столица, и мы ее посланцы, мы сожжем тут все, что смело бросить ей вызов, что мелкое и местное; одна власть, одна сила, одна слава; одно государство, одна страна!
Огонь, тот огонь, что чутко сторожат пожарные каланчи Москвы в Сокольниках и на Соколе, на Авиамоторной и в Петровском проезде, – это он! Он спит, но его нужно сторожить, он может утечь, вспыхнуть от случайной спички, от укатившегося уголька.
Огонь – Москва очищается и возрождается в нем, как феникс, в нем распадается и вновь возникает государство, – для нее этот огонь не губителен. А все, что не есть Москва, гибнет в нем окончательно; только болотный, приморский Санкт-Петербург неподвластен московскому огню, у него другая стихия – наводнения; сколько Москва горела, столько Питер затапливало. Огонь и вода – две субстанции двух столиц, два их алхимических начала; здесь, среди чухонских озер, вода сильна, но суши больше, и огонь переборет воду!
Как глубоко я ощутил себя москвичом – по восприимчивости к первородной стихии своего города! Мне даже представилось, что стояла когда-то в подвале Кремля золоченая клетка с особыми красными петухами, заменяющими московскому владетелю саламандр. Царь отправлял красных петухов, лукавый дар, в Новгород, в Казань, – и полыхали города, переходя под московскую руку.
Я вспомнил красный, огненный кирпич Кремля, очага власти, пламя собора Василия Блаженного над черной, угольной брусчаткой Красной площади.
Красные – мы были красные, багровое солнце светило нам в спины, трем татарам и двоим русским, пришедшим в северный край. Красные! Я почувствовал, что большевики победили одним выбором цвета, пробуждавшего память о древнем созидающем пожаре Московии, в котором занимается новая жизнь; память о том, что ужас этого огня спасает от другого ужаса – безгосударственного бытия, исторических потемок. Мы несли это в себе, мы не были большевиками, но были такими же, как большевики.
Никто больше не стрелял в ответ. Данила вломился в дверь ближнего барака, замахал рукой – сюда, сюда! Из двери, несмотря на густой дым вокруг, перебивающий обоняние, пахнуло душной вонью, света внутри почти не было, окна оказались заколочены крепкими щитами, и в темноте, как черви, – непонятно, где начинается один и кончается другой, – копошились люди.
Их было человек тридцать – бичей, бродяг, воришек, собранных Песьим Царем. Они не хотели выходить из барака, зарывались в тряпье, лезли под нары. Мы, пришедшие освободить их, перебившие псов, казались им бессмысленно-грозными существами, злыми духами. Только один старик, видно, из воров, сухой, крученый, словно его каждый день отжимали, как полотенце, вышел к нам, ничего не боясь, попросил закурить, отрешенно затягивался, а потом сказал:
– Повариху не трогайте, она ни при чем, – и затянулся снова, будто исполнил долг и дальше мог взирать на происходящее безучастно.
– Ищите Царя, – крикнул Марс, отмахнувшись от слов про повариху. – Ищите Царя!
Это прозвучало очень естественно – ищите Царя! Но теперь мы были заговорщики, цареубийцы, а не посланцы столицы, преследующие самозванца; мы словно лишились защиты, ореола красного утра. И тут же раздался выстрел, Джалиля развернуло, будто ему ударили в плечо кувалдой. Марс навскидку полоснул из автомата по кирпичной двухэтажной будке, на которую мы раньше не обратили внимания, Муса на бегу подхватил Джалиля, затаскивая его за бревна, чтобы перевязать.
Заряд огнемета кончился, патронов осталось немного, едва ли целый рожок на четверых. А Песий Царь сидел в выгодном месте, закрытые досками верхние окна будки не позволяли определить, где именно он находится. Любого, кто попробовал бы перебежать к стене будки, он мог застрелить через щель; у него, похоже, был нарезной карабин, а не охотничье ружье, как утверждал Кирилл, и он умел им пользоваться, – это подтверждала рана Джалиля.
– Ждать до темноты, – скомандовал Марс. – Джалиль, к Кириллу! Двустволка, да? Объясни ему, что бывает за обман!
Дальнейшее не нуждалось в командах, Муса и Данила заняли позиции с разных сторон укрытия Песьего Царя. Мы не могли взять его, но и он не мог покинуть будку. Конечно, полной темноты не наступит, стояли белые ночи, но Песьему Царю придется весь день быть наготове, и к ночи его внимание притупится, а значит, будет возможность пробраться в мертвую зону.
– Кому пришло в голову взять огнемет? – спросил я Марса. – Ты что-то знал?
– Нас в Африке однажды спас огнеметчик, – сказал Марс. – Нас было пятеро, один ранен. Нам проложили маршрут отхода. Хороший маршрут. Только не знали, что там начался мор, какая-то эпидемия среди антилоп. Миллионы тонн мяса ходят по саванне, и вот эти миллионы тонн умерли. Смрад, всюду туши гниют. Падальщики собрались со всех окрестностей. Нас зажали, окружили, зверье и птицы шумели так, что выстрелов не было слышно. Гиены даже не понимали, что их убивают, просто одна упала, и все. Их были тысячи в той долине. И тут огнеметчик выстрелил. И вся, понимаешь, вся эта свора бросилась прочь. Потому что самый великий ужас саванны – это пожар, идущий с ветром, от которого не убежать, можно только пересидеть в реке. А я это запомнил – у тебя всегда должен быть ужас ужаснее, чем у противника.
– Тем огнеметчиком был Муса? – спросил я.
– Тому огнеметчику снайпер попал в баллоны, когда мы чистили пещеры в Афганистане, – сказал Марс.
Джалиль вернулся обескураженный: Кирилл сбежал. Разрезал веревку бритвенным лезвием – обыскивать его не стали, а он, наверное, в стельке его прятал. Марс выругал подчиненных и сказал: