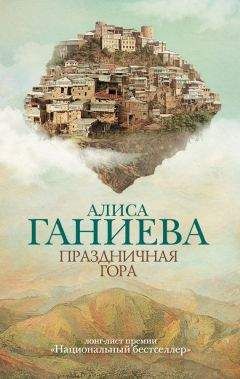Вячеслав Малежик - Герой того еще времени
Я не успел ответить, как сексуальная партнерша молвила:
– А что ты хочешь за пятьдесят-то долларов? Чтобы апартаменты были?
– Я готов пятьсот заплатить, – пылко ответил герой-любовник в кино Александр Благоев.
– Саша, вот моя визитка позвоните завтра, все будет организовано в лучшем виде.
Саша, продолжая для видимости злиться, взял визитку питерца, и мы торжественно отчалили из дома терпимости, натерпевшись впечатлений от общения с нашими согражданами.
* * *А тем временем к нашему камину на огонек зашел еще один хороший друган – Боря Хусаинов, которого все величали Хирургом. Он был движком любой компании – заводила, выпивоха, плейбой, рассказчик анекдотов и, конечно, блестящий хирург, способный скальпелем и словом убрать самый сложный нарыв и перелом в теле и душе своих пациентов. Искренняя радость компании по поводу прихода Борюсика подогревалась бутылкой вискаря и завернутой в фольгу бужениной из дикого кабана. Борек продирижировал процессом разливания напитка по стаканам и спросил:
– Как коротаете стихийное бедствие? Функционирует ли дорога жизни?
– Все здорово, коллега. Мы тут устроили вечер устного рассказа, и в качестве штрафа вам слово.
– Не-е, так сразу я не могу, я должен почувствовать тональность вечера.
– Ну что? Придется мне, – вступил в разговор я. – Кто в доме хозяин, тот и подкидывает дровишки в костер, чтобы он не потух.
– Мы все – внимание, – бросил Борис, поудобнее усаживаясь в кресле.
– Хорошо, я вам расскажу историю, связанную с артистами, но не совсем моими коллегами. Я вам поведаю историю, рассказанную блестящим актером, великим рассказчиком Евгением Яковлевичем Весником. Да, он выходил на сцену в эстрадных концертах, но он был в первую очередь актером театра и кино. Мне посчастливилось несколько раз выезжать с ним на гастроли и наблюдать его на сцене и в быту. Он был напичкан театральными байками и после концерта за столом, в поезде, на прогулке рассказывал эти истории, заставляя нас слушать их с открытым ртом. Весник настолько мастерски владел словом и жестом, что буквально двумя фразами и несколькими движениями мог нарисовать любой персонаж. Рядом с ним у всех нас, его слушателей, язык буквально прилипал к небу. Быть оппонентом ему или попробовать при нем рассказать свою историю или анекдот… Для этого не хватало ни сил, ни мастерства, и из наших ртов вырывалось только благодарное мычание.
Г-Р-г-родина, п-г-рости!
Однажды мы были с концертом на Череповецком металлургическом комбинате, и нас шикарно поселили в профилактории где-то в лесу в 10–15 километрах от города. Конечно, ежевечерние застолья. И вот во время одного из них, увидев, как один из наших – Володя Ковалев налил себе в рюмку холодной водки, Евгений Яковлевич остановил его, не дав опрокинуть содержимое в рот.
– Володя, вы неправильно пьете водку!
– А как надо?! – удивился Ковалев.
– А я вас научу.
С этими словами он неторопливо налил себе в тонкий двухсотграммовый стакан сорокаградусной и затем выпил содержимое. Делалось это в высшей степени благородно. Он аккуратно поставил стакан на стол, не морщась, не крякая, не издавая никаких звуков и жестов, которые могли бы говорить о том, что ему дискомфортно… Затем промокнул салфеткой рот и пододвинул к себе тарелку с борщом. Съев две или три ложки горячего супа, а может, закусив им, великий актер и педагог Евгений Весник повернулся к Ковалеву и спросил:
– Вы все поняли, Володя?
– Я буду стараться, – сказал ученик.
– Я скажу вам, молодым, вы пьете грустно, без полета. Это же неинтересно. Я вспоминаю, как великие – Ливанов Боря, конечно, Грибов, Станицин, в общем вся старая гвардия встречала в Сандунах Новый год.
– Как в «Иронии судьбы»?
– Да нет, Володя. Это «Ирония судьбы» списана с той истории, ну насколько это дозволяла цензура. Так вот мхатовцы выпивали, провожая Старый и встречая Новый год, так: они сначала выпустили в бассейн Сандунов кильку пряного посола…
– Что, прямо из банки?
– Не перебивайте, Володя. И вот, представляете? Они произносили тосты, выпивали, ныряли в бассейн и закусывали килькой, причем помогать себе руками было нельзя. Вот как, господин Ковалев, надо романтизировать процесс. И заметьте, великие старики-мхатовцы, голые, в роли дельфинов.
Мы замирали, переваривая услышанную историю, и надеялись, что последует продолжение. Евгений Яковлевич снисходительно принимал наш немой восторг, приканчивая свою тарелку борща. Замечу, что к водке он за весь вечер более не прикасался. Может, в этом и был секрет его самого и того великого поколения, к которому принадлежали он и другие актеры МХАТа и Малого.
Однажды я его спросил:
– Евгений Яковлевич, а что вы мне можете сказать об Александре Вертинском?
– А что?
– Сейчас поясню. Я не разделяю всеобщего восхищения им. Для меня далека эстетика его песен. На сцене я его не видел, а в кино, пожалуй, роль в «Анне на шее» запомнилась, но, повторюсь, он не герой моего романа.
– Вы знаете, Вячеслав, он действительно человек другой эпохи, но он, и я утверждаю это, – великий актер… Певец? Нет, пожалуй, все-таки сначала актер, а потом певец. И если говорить о шансоне на русской сцене и проводить аналогии с Морисом Шевалье, Шарлем Азнавуром, Эдит Пиаф, то я бы Вертинского назвал в первую очередь.
– Но как?! Эдит Пиаф с ее вселенским голосом, способным увлечь за собой многотысячную аудиторию, и камерный Вертинский?.. Я не знаю, как их можно сравнивать?
– А их и не надо сравнивать. Они похожи тем, что делали из каждой песни спектакль. И я вам замечу, Вертинский был не только драматургом и актером своих песен, он был блестящим режиссером своих мини-моноспектаклей. Я вам расскажу историю, свидетелем которой был сам.
В ноябре сорок третьего Александр Николаевич вместе с красавицей женой и маленькой дочкой Марианной возвращается в Москву из Шанхая, где он прожил последние годы эмиграции. Как говорят, он написал письмо на имя В. М. Молотова, и на самом верху было получено разрешение на его возвращение в Россию, да что я… Конечно, в СССР. Его сначала поселили с семьей, а дочка была еще грудной, в «Метрополь», а вскоре после этого дали квартиру на улице Горького.
И вот по Москве, а в столице тогда работали некоторые театры, разнесся слух, что во МХАТе состоится концерт Александра Николаевича. Вся театральная Москва, и я в том числе, моментально сошла с ума, хотя какая к черту театральная Москва, так, восемнадцатилетний парень, мечтающий стать актером… Наконец, а это было уже ближе к Новому году, был назначен день, вернее ночь, когда будет петь Вертинский.
Я льстил и умасливал нужных людей и прорвался-таки на этот концерт. Причем замечу, господа, что прорвался за кулисы… Вы, актеры, знаете, что нужно сделать для этого… Концерт, а его начало было назначено на час ночи, после окончания афишного спектакля МХАТа, заставил меня надеть парадно-выходную одежду, хотя что такое праздничная одежда во время войны?… Короче, сижу я, мокрый от волнения, за кулисами на стуле, не очень понимая, что меня ждет… Занавес, отделяющий сцену от зрительного зала, закрыт, и через него слышно привычное волнение, исходящее от публики перед началом представления.
На сцену вышел сосредоточенный Александр Николаевич. Он сцепил свои тонкие пальцы, загримированные в белый цвет. Когда он поднял руки, я увидел, что они выкрашены аж до плеч. Знаменитый черно-белый костюм Пьеро, мертвенный грим на лице, подчеркивающий его образ скитальца и страдальца, маленькая шапочка на голове и полное сосредоточение эмоций и воли. Я сидел и думал, с какой «ариетки», как он называл свои песни-спектакли, начнется концерт? Я увидел, как конферансье отодвинул одну полу занавеса и прошел на авансцену к зрителям. Вертинский сосредоточился, как лев, изготовившийся к решающему прыжку. Зрители затихли, и я услышал:
– Встречайте, Александр Вертинский!
Раздались бурные аплодисменты, занавес открылся, и Александр Николаевич шагнул к зрителям, которые сидели в этой всепожирающей пасти партера. Овация смолкла, и я услышал стук каблуков великого, я повторяю, великого русского актера Вертинского. Он вышел к своей публике (микрофонов тогда и в помине не было) и в полной тишине произнес:
– Г-Р-г-родина, п-г-рости!
И с этими словами он вскинул вверх белые руки. Фалды костюма Пьеро соскользнули к его плечам, а сам он со всего размаха рухнул на колени. Этот стоп-кадр продолжался… ну не знаю… секунд десять, а потом зал взорвался овацией, сквозь которую прорывались слова «браво!», «позор!». Кто-то крикнул:
– Занавес!
Сцена закрылась, Вертинский остался за кулисами все еще стоящим на коленях. Мы, зрители-безбилетники, ошеломленно сидели и стояли, глядя на нашего кумира. Выдержав паузу, а он оставался артистом даже для нас – небольшой кучки поклонников, Александр Николаевич встал с колен, абсолютно владея собой, огляделся и, не спеша стряхивая пыль со своих брюк, произнес: