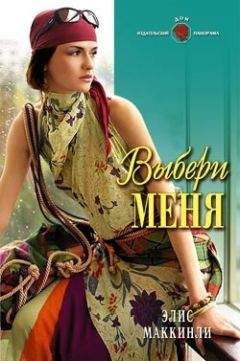Денис Драгунский - Мальчик, дяденька и я
Но через две недели он позвонил Диме сам и попросту сказал: «Простите, мой дорогой! Всё это очень мило и, наверное, даже неплохо, но мне не подходит».
С тех пор Дима стал чуточку посмелее. Следующую свою пьесу он передал другому великому актеру-режиссеру, тоже отцовскому знакомому, теперь уже напрямую. Впрочем, и это не помогло. Но виной тому была уже не Димина робость, а, очевидно, сама пьеса. Тут уж обижаться не на кого. Даже на себя здесь обижаться не надо. Он-то ведь сочинял во всю меру отпущенного. Ну не понравилось – и бог с ним.
– Можно продолжать? – спросил я дяденьку.
– Вперед.
– Итак, вернемся в ателье УПДК. Сначала Иван Тихонович сшил мне пальто. Зимнее. Совершенно ужасающее. Хотя мама долго подбирала материал и цигейку на воротник. Пальто было в тусклую некрупную клетку, как сейчас иногда бывают пиджаки. Но ткань была не пиджачная, а вполне пальтовая, толстая. Не такая уж дешевая, хотя омерзительного серо-зеленого с бежевыми полосками и коричневыми нитками, какого-то жухло-травяного цвета. Опять же сама по себе она была вовсе не плоха. Может быть, из этой ткани получилось бы неплохое, во французском стиле осеннее пальтишко. Но делать из этого тяжелое зимнее пальто было как-то глупо. Однако его сшили именно таким. Я проносил его несколько лет, стыдясь его. Ну не то чтобы стыдясь, нет – я никогда не был модником и тряпичником, но всё равно предпочел бы что-то потемнее, попроще, без зелено-бежевых клеточек.
Наверное, это пальто было мне дано в наказание.
Вот за что. Когда мне было лет шесть, моя мама привезла с гастролей из Египта чудесную маленькую дубленочку. Лет через тридцать за такую детскую шубку богатенькие мамы просто бы удавились, но тогда, в 1956 году, впечатление было совершенно другое. Когда я вышел в этой дубленочке во двор, меня окружили ребята (мои ровесники и чуть постарше), стали тыкать в меня пальцами, хохотать, приплясывать и кричать: «Колхозник, колхозник! Деревня, деревня! Откуда тулуп?» Они так меня задразнили, что в дело вмешалась чья-то мама с верхних этажей. Мы жили в подвале. Мы были «простые люди», а на верхних этажах жили министры, и маршалы, и секретари ЦК КПСС. И вот эта мама с верхнего этажа (я даже вспомнил, кто она была такая. Она была дочь маршала Голикова. Ее сын, то есть внук маршала, мой ровесник, был в компании насмешников) – она подбежала к нам, решив, очевидно, что это богатые ребята бессовестно и, главное, совершенно не по-советски дразнят бедного мальчика из подвальной квартиры, где жили шоферы и уборщицы. О да, в смысле о нет. Это было бы совсем не по-советски, не по-коммунистически. И она прибежала навести порядок и восстановить справедливость. Она крикнула: «А ну-ка хватит! Вы что? А ну-ка брысь отсюда!» – и топнула ногой. Все разбежались. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «А ты правда, как будто мужичок с ноготок, – сказала она. – В больших сапогах, в полушубке овчинном… Какой забавный у тебя армячок». «Это не армячок, – сказал я. – Это заграничное зимнее пальто. Мама привезла из командировки из Египта».
Она улыбнулась, пожала плечами и ушла. А мне захотелось, чтобы у меня было пальто как у всех. Как у маршальских и министерских внуков – драповое, с кургузым цигейковым воротничком. Как у всех, вы поняли?! Я даже маме сказал, намекнул, что дескать, нельзя ли мне какое пальтишко попроще? Но мама расхохоталась и сказала: «Еще чего, не выдумывай!» А я вздыхал и мечтал, как однажды ясным зимним днем выйду во двор в нормальном пальто – в драповом, повторяю, с цигейковым, повторяю, воротником.
Вот, наверно, за эту мою неблагодарность и глупое мечтание и было мне выдано кошмарное зимнее пальто кисти Ивана Тихоновича. Очень тяжелое, потому что на ватине. Я смотрел на Ивана Тихоновича, как он кусочком мыла рисует линии на этой кошмарной ткани, как он обкалывает меня булавками, прикрепляя ко мне спину, полы и воротник, и думал что-то совсем уже китайское или индийское. Что наша жизнь – это колесо перевоплощений, это поток без начала и конца.
И хоть зажмурься, хоть смотри во все глаза, хоть греби руками, хоть вытяни их вдоль туловища – разницы никакой.
Брюки, сшитые Иваном Тихоновичем, были еще хуже. Мама сказала: «Тебе надо сшить брюки. Я уже договорилась с Иваном Тихоновичем. Он придет к нам домой. Он снимет с тебя мерку на дому». Очевидно, я должен был быть счастлив, что сам Иван Тихонович придет ко мне, как к фон-барону и будет на дому снимать мерки. «Что, – сказал я, – у них там, небось, ОБХСС свирепствует?» «Ты ничего не понимаешь, – сказала мама. – Иван Тихонович делает нам любезность. Приходит домой, а ты не ценишь!»
Но ателье, в котором работал Иван Тихонович, было в двух кварталах, буквально, говорю вам, в двух кварталах. Мы жили на углу Каретного и Садовой. Если идти по направлению к Самотечной площади, надо было перейти Лихов переулок и еще маленький переулочек под тогдашним названием «улица Ермоловой». И вот там, на углу Садовой и улицы Ермоловой, в первом этаже большого дома, где жили иностранцы, разные собкоры и торговые советники, – там и было это самое ателье УПДК. Так что Ивану Тихоновичу, наверно, было удобно зайти к нам по дороге к метро «Маяковская», а принимать у себя в ателье он по какой-то причине не мог. Возможно, по причине каких-то новых строгостей. Так что, наверно, я был прав. «Он плохой портной, – сказал я маме. – Он мне очень плохо сшил пальто». «У тебя пре-екрасное пальто, – сказала мама с ударением и растяжкой. – Пре-е-е-е-екрасное». Тут уж я точно понял, что пальто очень так себе. Потому что мама всегда так говорила: «Пре-екрасный обед, пре-екрасная комната, пре-екрасный фильм», – когда не было супа, или номер в пансионате был темный, маленький и с разбитой раковиной, или когда речь шла о какой-то бездарной картине, снятой знакомым режиссером, который позвал на просмотр. В общем, если мама понимала, что это полная дрянь и барахло, это тут же становилось «пре-е-е-екрасным» с растянутым «е». «Плохой портной, плохой портной», – сказал я. «Он работает в ателье УПДК, – сказала мама, подняв палец. – Он шьет для дипломатов, для иностранцев!»
Тоже типичное мамино возражение – чуточку мимо вопроса. «Она дура» – «Она жена знаменитого писателя». «Он странный и неприятный человек» – «Он замминистра». «Некрасивый, аляповатый сервиз» – «Этот сервиз стоит пятьсот рублей». Внушительные возражения, но как-то не по существу. Я же не говорю, что она жена дворника, он мелкий чиновник, а сервиз стоит тридцатку.
В общем, я сразу понял, что мама со мной согласна. И пальто некрасивое, и Иван Тихонович шьет так себе. Но вот он пришел, разделся в прихожей и вошел в комнату в своем портновском облачении, то есть в жилетке без пиджака – пиджак он ловко снял вместе с пальто, как двойную скорлупу, – и в «портновском браслете», то есть на левой руке, повыше часов, была надета шелковая подушечка, утыканная булавками; и еще сантиметровая лента на шее. Иван Тихонович обмерил сначала меня, записал всё на бумажке, а потом стал размечать ткань, которую припасла мама для моих брюк. Она вытащила из шкафа маленький сверток, приговаривая, что это замечательный, очень редкий и очень качественный импортный материал. Материал был непонятного цвета, одновременно песочный и бордовый, с лиловым оттенком. Если пойдете на пляж, захватите с собой баночку негодного, забродившего варенья, вылейте его в песок и размешайте ногой – выйдет как раз такой дрянной цвет. Но мало того! Материла не хватало по длине, о чем Иван Тихонович сообщил прямо, прибавив с некоторым ехидством, что отрезик-то, наверно, покупали, когда Дениске двенадцать лет было или четырнадцать. А сейчас вон какой вымахал. И он, отчасти даже сочувственно, потрепал меня по плечу, и подмигнул, и улыбнулся своим тяжелым неподвижным лицом. Но мама пропустила это замечание мимо ушей и тут же сказала: «Кажется, я придумала. Давайте сделаем брюки с обшлагами». Иван Тихонович почтительно объяснил, что на брюки с обшлагами, как раз наоборот, требуется еще больше материи, чем на брюки без оных. «А мы сделаем вот как, – весело сказала мама. – Там ведь будут какие-то обрезки материи. И мы из этих обрезков соорудим, ну как бы это выразиться (она не хотела произносить это слово, но ей пришлось, потому что иначе никак не скажешь)… соорудим фальшивые обшлага». Тут уж Иван Тихонович не понял, в чем дело. А я вообще махнул рукой и пошел на кухню, где у меня стояла чашка недопитого чая и лежала моя любимая газета «Неделя». Когда я допил чай, Иван Тихонович уже одевался и поглядывал на меня с состраданием. Портной, который шьет на бедных, надставляет и перелицовывает, всегда, наверное, глядит на своих клиентов с состраданием. Когда он совсем уже уходил, я посмотрел ему вслед и еще раз подивился его тяжелому складчатому затылку.
– Иван Тихонович сошьет тебе чудесные брюки, прекрасные брюки, – сказала мама. – Брюки из замечательной импортной ткани. Брюки, сшитые в ателье УПДК. Что тебе еще надо? – спросила она.