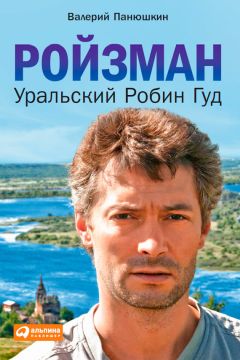Валерий Панюшкин - Все мои уже там
Банько побледнел и прошептал:
– Я не могу.
– Чего не можешь? – Толик сграбастал повара с дивана, поднял в объятиях и поставил на ноги. – Яичницу-то пожарь. Я инструменты приготовлю. А профессор походит тут с ней.
Профессором Толик почему-то называл меня, когда пребывал в благодушном настроении.
Следующие полчаса мы с Лаской прогуливались по дому из гостиной в кухню и обратно, пережидали схватки, молились смешными молитвами, а Толик и Банько занимались делом. Банько, кажется, так и не сумел вернуть себе самообладания. Всякий раз, когда мы заходили на кухню, бедняга ронял что-нибудь, бил какую-нибудь посуду или резал себе пальцы острыми ножами, каковые в другие дни так и летали у Банько в руках.
Хихикая и обсуждая, посвятить ли следующую просьбу «положи хлебушком, подними веничком…» преподобному Серафиму, архангелу Михаилу или неканонизированному еще святому академику Сахарову, мы с Лаской заходили навестить Банько, но тут – бац! – падала со стола и разбивалась в дребезги бутылка оливкового масла. Банько вздрагивал всем телом, на глаза ему наворачивались слезы, он приседал собрать осколки и бормотал:
– Плохая примета. Разбить оливковое масло – плохая примета. Ой! – кололся осколком, принимался останавливать кровь кухонным полотенцем и бормотал: – Кровь! До крови! Плохая примета!
Тем временем Толик в гостиной потрошил аптечку, мыл двенадцатилетним виски «Талискер» барный поднос, раскладывал на подносе бинты, ватные ушные палочки и вымытый тем же виски суровый шпагат, который бог знает где нашел.
– Черт! – причитал Банько, когда мы входили на кухню. – Палец порезал!
И действительно на пальце у него красовался глубокий надрез, и кровь из раны капала на пол. А он вытирал кровь все тем же кухонным полотенцем, которым вытирал давеча масло.
А Толик тем временем варил в кастрюльке ножницы, обливал лезвия двенадцатилетним виски и клал ножницы на поднос.
– Это зачем? – испуганно спрашивала Ласка.
– Как зачем? Пуповину резать. У тебя что, ребенок-то всю жизнь будет ходить с пупком до колен?
– Черт! Черт! Черт! – плакал Банько на кухне. – Лук пригорел! Лук пригорел! Черт! Черт! Черт!
– Ты черта-то не зови! – отзывался из гостиной Толик. – Нам черти тут ни к чему! Ты Бога зови.
Пока Банько чертыхался, Толик взял из бара две пластмассовые трубочки для коктейлей, соединил их вместе, сантиметра на три вдвинув одну в другую. Сшил в месте соединения ниткой и аккуратно перемотал пластырем. Один из концов получившейся длинной трубки оплавил зажигалкой, потом промыл трубку этой своей сингл молт дезинфекцией, положил на поднос и накрыл марлей, которую предварительно прокипятил в кастрюле и прогладил насухо утюгом.
– А трубка зачем? – спросила Ласка испуганно.
– На всякий случай, – чтобы уклониться от ответа, Толик крикнул в сторону кухни. – Ну, что там, повар? Кушать-то не пора?
На пороге гостиной показался Банько, бледный, как и прежде, перепачканный кровью, оливковым маслом, помидорным соком и яичным желтком.
– Готово, – сказал Банько. – Идите ешьте. Я не могу есть.
Толик кивнул с пониманием:
– Правильно. Ты нервный. Тебе от еды только хуже. Ты с Лаской пока походи, а нам с профессором пожрать надо.
После этих слов акушера я препоручил Ласку испуганному повару, и мы пошли на кухню. Представший нашим глазам стол свидетельствовал, пожалуй, о крайней растерянности Банько. Тарелки он поставил разные, хлеб на деревянной доске не то что нарезал, а скорее накрошил, ножи и вилки перепутал местами, а пригорелую яичницу, кажется, отдирал от сковороды мясным тесаком, во всяком случае, на тефлоновом покрытии сковородки зияли глубокие, непоправимые царапины. Яичница лежала в тарелках, а сковорода стояла в раковине. Банько даже и не подумал сковороду помыть, чего прежде за ним не водилось: прежде «накрыть на стол» значило для него еще и вымыть всю посуду, которая принимала участие в готовке.
– Эк колбасит парня! – покачал головой Толик, сел за стол и принялся есть. Он ел нарочито медленно и, кажется, подыскивал тему для светского разговора, чтобы наверняка уж сложилось впечатление, будто волноваться нам не о чем. – А вот… – сказал Толик, – вы какой институт заканчивали?
– Авиационный. Я по образованию инженер.
– Вы же журналист?
– Это я потом стал журналистом. А был инженером.
Мы немного помолчали. В тишине только вилки звякали, и ножи скребли по тарелкам. Из гостиной доносились шаги и бормотание Ласки. Я подумал было рассказать Толику, как в советское время для парадов на Красной площади использовали не настоящие баллистические ракеты, а только корпуса баллистических ракет. Я подумал рассказать, как целое конструкторское бюро, где я трудился, работало над развешиванием внутри корпуса ракеты свинцовых грузиков, чтобы ракета казалась настоящей. Это была не очень-то правдивая история, зато хорошо отработанная в разнообразных компаниях и смешная. Я подумал рассказать ее, но не стал. Про ракеты было неинтересно. Из гостиной доносились бормотание и стоны Ласки. И я спросил:
– Скажите, Анатолий, а у вашей бабушки была Библия?
– Не, Библии не было. Евангелие было и Псалтырь. Самописные. – Толик встал из-за стола, собрал тарелки, подошел к раковине и принялся медлительно мыть посуду.
– Как это самописные? – Я включил кофейную машину, и нам пришлось переждать, пока отшумит кофейная мельница.
– Ну, так. От руки написанные. Бабка-то рассказывала, что церковь у нас сожгли. И все книги. Вот кто что помнил наизусть, тот то и записывал. Псалмы там… Нагорная проповедь… Девять заповедей…
– Десять заповедей, – автоматически поправил я.
– Не знаю, – Толик пожал плечами и поставил последнюю вымытую тарелку в шкаф. – Может, и десять. У бабки в Евангелии было девять. Забыли, может, одну.
Я подумал было выяснить, которую именно из десяти заповедей запамятовали долгомостьевские евангелисты. Но не стал выяснять. Мы взяли кофе и вышли с чашками покурить на крылечко. Проходя мимо гостиной, Толик даже и не заглянул туда. Даже и не поинтересовался, как чувствует себя наша роженица. А я заглянул и увидел, что Ласка опять лежит на диване, и Банько опять сидит рядом с нею и держит ее за руку, бледный как мел.
На улице была удушающая жара. Мы сели на качающуюся скамейку, и я закурил.
– Дайте, что ли, и мне сигарету, – сказал Толик.
Я протянул ему пачку. В пачке оставалось пять сигарет. Толик сунулся было пальцами, но потом посмотрел на меня и спросил:
– У вас еще-то есть?
– Нету. Эти последние. И табак закончился. Берите, берите, Анатолий. Перед смертью не надышишься.
– Ничего, – он решительно взял сигарету. – На пока вам хватит, а потом родим нормально и уйдем отсюда.
– Как это уйдем? – переспросил я.
– Нормально уйдем, – Толик мотнул головой. – Родить только надо сначала.
Мы помолчали. Я докурил до самого фильтра и спросил, знает ли Толик, что Ласка опять легла.
– Ну и легла, – Толик пожал плечами. – Главное, что не орет. Если смеяться больше не может, значит, начинается. Хорошо. Щас родим.
– Вы же сказали, что лучше на ногах перехаживать схватки?
– Ну, лучше на ногах, – Толик вздохнул и махнул рукой. – Но они же образованные. Они же не жалеть-то себя не могут.
Это были не его слова. И даже не бабкины. И даже не столетняя долгомостьевская мудрость, а вечный и впроброс воспроизводимый Толиком голос нашей скудной земли.
– Как это не жалеть себя? – попытался я залучить себе этой мудрости еще хотя бы каплю.
– А чего жалеть-то? – Толик поплевал на окурок и выкинул его в цветы. – Ничего ж нету. Бабка говорила: все в табе и все сичас. Нечего жалеть, – он хлопнул себя по коленкам, встал решительно и сказал: – Ну, че? Пошли родим?
Когда мы вошли в гостиную, Ласка лежала тихонечко на диване и тихонечко стонала.
– Вы чего? Не родили еще? – проговорил Толик с улыбкой.
И Ласка тоже в ответ улыбнулась ему.
Толик задрал на ней рубашку до самой груди, присел перед ней на корточки, приподнял и раздвинул в стороны ее ноги. Потом он наклонился, и мне показалось, будто Толик хочет поцеловать Ласку в гениталии. Он, однако же, приложил ухо к Ласкиному животу, потрогал живот и сказал:
– Хорошо, сейчас родим.
После этого Толик лег навзничь на полу возле дивана, расставил ноги в стороны, подтянул колени к животу и сказал:
– Смотри, теперь-то когда пойдет схватка, тяни ноги на себя руками и тужься изо всех сил, как будто хочешь покакать, поняла?
Ласка кивнула.
– Сильно только тужься, не жалей себя, поняла? – для иллюстрации Толик потянул на себя колени и так натужился, что лицо его стало цвета свеклы. – Поняла? Только не в лицо тужься, а в попу. Поняла?
Ласка кивнула.
Тогда Толик встал и сказал спокойно:
– Все. Ждем схватку.
Через несколько мгновений Ласка испуганно посмотрела на Толика и прошептала: