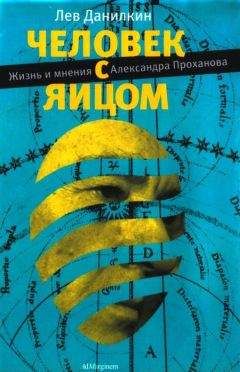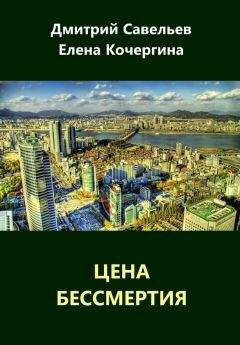Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
Где солнце – сзади?
Ну да, солнце на западе, а смотрим мы на восток.
Зрелище заката в Венеции, написанное лучами будто бы по театральному заднику, обходилось без видимого диска раскалённого солнца, распоряжавшегося, однако, сценическими эффектами.
И – как ни странно – к волшебству этого зрелища Германтов вовсе не считал напрямую причастной элементарную географию.
Природное явление здесь воспринималось как искусно искусственное.
И – исполненное в сугубо венецианском духе.
Какая здесь была режиссёрски сложная и тонкая постановка, каким изощрённым – словно бы другим в каждый вечер бесплатного театрального представления – был здесь художник по небесному свету! Мы смотрим на закат, хотя собственно закат мы не видим, мы видим лишь его следствие: солнце-то за спиной у нас, за силуэтной, угольно черневшей к верхнему краю стеной фасадов, и там, за фасадами, небо ещё телесно-тёплое, светлое, но солнца – нет, закатилось за фасады, и не видно его, а закат – точнее, то, что, расчувствовавшись, принимаем мы за закат, – на фоне другой половинки плавно темневшего к горизонту небесного свода поигрывает раскрасками и тональностями, длится, как бы доверительно, на глазах у нас, уточняя перед угасанием своим оттенки румян, накладываемых лучами на камни и воду.
А вот уже вроде и не румяна это, а какая-то воспаленнность, какой-то проступающий сквозь камни болезненный жар.
Вневременная обманка, как и вся Венеция: когда пишется это краткое неостановимое зрелище – сейчас, столетия назад или – завтра?
И сколько же неясных волнующих уподоблений порождает это прерывно длящееся веками зрелище, сколько ассоциаций.
Вечный, повторяющийся, однако – ежевечерний неповторимый символ расцветов и угасаний?
Расцветов… как угасаний?
Ежевечерний символ угасающей жизни, вписанный в общую символику самой Венеции, символику её многовекового прекрасного умирания… И какая же мягкость колорита, неуловимость цветовых и тональных переходов присуща камням её, вмонтированным в небо и омытым лагуной, какая в палитре этого заката генетическая верность стилевому венецианскому инварианту.
Вот ярко – ярко, но всё равно мягко! – запалился-зарделся портик островного монастыря, а боковой фасад его заплыл тяжёлой умбристо-сизой тенью. А вода, неподвижная и тоже тяжёлая, вдруг розовато-отражённо, ловя отсвет укрывисто-красящего огня, блеснула, а вот уже водный блеск отливал зеленоватым холодком…
Вольман не был чувствителен, но не смог не остановиться – смотрел.
И Бызова, и Загорская, и Головчинер… Не шелохнувшись, как околдованные язычники, стояли они в разных точках набережной, смотрели.
И Ванда, от избытка эмоций обессиленно прислонившись к чугунному стволу ещё не зажжённого фонаря-канделябра, смотрела.
Смотрели на закат-подсветку, а – даром ли на восток смотрели? – словно исподволь ждали восхода солнца.
И Германтов смотрел, смотрел: закат ведь был ещё и залогом завтрашнего рассвета, да и всего завтрашнего дня, наступления которого он с таким нетерпением ждал.
Но каждый раз – и будто бы впервые – он восхищался изменчивостью красочной сценографии.
Только что горела-раскалялась Джудекка – малиново-алая и… какая-то матовая, по зрительному ощущению, даже шершаво-шероховатая, словно красно-розовыми мелками по серому зернистому картону раскрашенная.
Только что серповидный пунцово-алый контур горел на куполах делла-Салуте.
Только что ярко горел Сан-Джорджо-Маджоре, карминно-алый – а вот уже, как и Джудекка, малиновый, будто ясно и чисто светящийся сквозь почему-то похолодевший фильтр, который с неуловимой лёгкостью поменял художник-осветитель, искусник наш. А вот уже огненный свет смягчался-замутнялся будто бы без ощутимых рукотворных вмешательств; неуловимо, будто бы лучи уже сквозь облако взметнувшегося пепла светили – как медленно, но явственно – дотлевал закат. Горел, прощально горел, фронтон монастырского портика, верхушка колокольни и вовсе пылала, однако – в плавной растяжке, сверху вниз – дотлевали стены, колонны, и справа вовсе догорала-дотлевала Джудекка, сплошная удлинённая головешка островных фасадов медленно погружалась в пепел. Небо – фон для нехотя меркнущих силуэтов пламени – темнело, сгущались выцветавшие краски; как быстро менялось всё, но незаметными оставались границы цветовых фаз – пока, казалось, лиловела каждая молекула воздуха, но монохромность брала верх, тьма торжественно, как занавес, опускалась, а по камням-формам она будто бы поднималась, догоняя убегавшее во тьму пламя. И где, где этот только что ещё плотный лиловый тон воздуха? Не прозрачный воздух уже, а непроницаемая, вытравившая лиловую основу свою материя, всё почернело – бледно-розовые блики, отражённые посланцы светлого неба, касавшегося сзади, за спинами зрителей, фасадных карнизов набережной, ещё еле заметно колебались на темневшей воде, поодаль блики сливались в тускло-розоватую пока, но покорно остывавшую и застывавшую полоску лагуны, а совсем спереди, у прибрежной кромки воды, тёмной-тёмной, чёрно-блестящей и плещущейся между причалами, дробятся уже электрические огни.
Катарсис?
Закат почти угас, зачарованные зрители в нерешительности – всё ли досмотрели, дочувствовали? – трогались со своих мест.
Бызова, Загорская, Головчинер, Ванда – да и двое таинственных незнакомцев в чёрных плащах и белых масках, – не желая расставаться со зрительной истомой, медленно-медленно и, разумеется, с отмеренными случаем дистанциями друг от друга, шли в сторону Сан-Марко.
И Германтов, словно в полусне, словно с притуплёнными чувствами, но всё ещё под чарами зрелища, медленно пошёл в ту же сторону, к Сан-Марко.
Музыка неслась с отчаливавшего вапоретто.
Огни празднично плясали в воде.
Загорались окна.
Включались – по цепочке вдоль набережной – розовые фонари-канделябры, поджигали на торговых стендах соломенные шляпы, косынки, шали.
Да ещё киношники усердствовали – слепили белым огнём софиты, камера наезжала на полицейского.
У ярко освещённого входа в «Даниели» Германтов наконец очнулся: почему бы не зайти в бар, чего-нибудь крепкого выпить? Тут и вспомнил он о чудесном спасении Игоря у шлагбаума блок-поста, на границе с адом, о дне рождения Кати…
Выпить, выпить, его уже донимала жажда.
Щелчок выстрела, преступник – в который раз, репетируя? – падал на плиты, полицейский засовывал пистолет в кобуру.
Зеваки аплодировали.
Между тем к входной двери «Даниели» подходил склонный к полноте моложавый человек с редеющими рыжеватыми волосами.
С машинальной вежливостью Германтов пропустил его вперёд.
Случай?
Конечно, случай.
Роскошный, затопленный светом вестибюль.
Узорный мрамор полов.
Ведуты на стенах.
Два Больших канала, как водится – у Риальто, и у делла-Салуте, – симметрично, напротив друг друга.
Старинная, красного дерева конторка портье, чья восковая лысина поблескивает за открытым компьютером, узкая ваза синего хрусталя, из которой вырастает жёлтая хризантема.
В баре был прохладный волнующий полумрак, горели ярко лишь крупные бра за стойкой, за спиной бармена, затянутого в кремовый смокинг, – симметрично, слева и справа от бармена, да хитро подсвечены были изнутри гранёно-выпуклые красно-синие стёкла на дверцах двух навесных шкафчиков из экзотического чёрного дерева, меж которыми поблескивало продолговатое зеркало неопределённого возраста; под зеркалом бледно дымилась мраморная столешница с бутылками…
Всё – особенное, не без претензии на сугубо местный аристократизм, и всё – как в тысячах других питейных заведений.
Да, если не лень присматриваться, то можно ещё заметить и тускловатые зрачки на портативных, зависших в углах камерах видеонаблюдения.
Рыжеватый холёный полноватый мужчина в тёмно-синем клубном пиджаке и Германтов с сумкою на плече подошли почти одновременно к стойке. За ними – Германтов увидел их в зеркале – вошли в бар также трое черноволосых горбоносых мужчин, они бесшумно уселись в дальнем углу, за круглым столиком.
Пока – не китаец, удовлетворённо отметил Германтов, оценивающе глянув на стройного высокого бармена с прилизанными волосами, синевато-впалыми, гладко выбритыми щеками и наглыми смолистыми глазками; скользнул по внушительному переливчатому ряду бутылок: вина, коньяки, разнокалиберные пузырьки с граппой.
«О, ведь когда-то именно в этом баре был я крупно обсчитан, – вспомнил с улыбкой Германтов, – но не этот смиренный наглец в кремовом смокинге с бабочкой под кадыком обсчитывал, не этот».
Бармен с угодливой заинтересованностью склонил маленькую головку, изготовился принимать заказы.