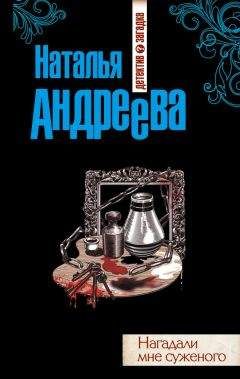Максим Гуреев - Покоритель орнамента (сборник)
Ветер гуляет на железнодорожной платформе где-то в районе Голицына.
Шамордино. Никола Ленивец. Орудьево. Спас. Острожье. Сикеотово. Зосимова пустынь. Подмоклово. Акатово горо дище. Катуар. Краснознаменск. Вознесенское. Кушерека. Калуга-2.
Река символизирует вечность. Потоки, обнаруживающие себя лишь присутствием извивающихся водорослей, приходят ниоткуда и уходят в никуда. Водоросли, как полозы.
Некоторые змеи проплывают мимо и теряются в водоворотах, проваливаются без остатка в бездонные воронки.
Изредка можно видеть и проплывающих мимо рыб, которые смотрят по бокам, потому что глаза расположены у них по бокам.
Он падает на кровать на правый бок, уперевшись взглядом в стену, и лежит так, абсолютно неподвижно, вспоминая все детали происшедшего – взрыв, крики, грохот стрельбы.
Однако со временем события все более и более обретают мифологические черты, а самое страшное и даже дикое забывается, зарубцовывается последующими наслоениями, порой, увы, имеющими к произошедшему самое отдаленное отношение. В подобных случаях всегда предельно важно запоминать детали, а также отчетливо отличать явь от забытья, от полусна.
По стене ползают муравьи.
Откуда они здесь?
Он встает с кровати и выходит из автобуса, захлопывая за собой дверь.
В воздухе еще какое-то время продолжает висеть песчаная пыль, принесенная сквозняком с городища, где горячий ветер трубно гудит в платинового отлива ковыле, стелет его по земле, поднимает с обложенных досками могил высохшие цветы и выцветшие погребальные ленты.
Ритуал печального кортежа всегда соблюдается со строгостью, ведь тут у каждого свое место, свои слова, которые следует произносить снова и снова, когда с фронта привозят гробы с убитыми новобранцами, недавними десятиклассниками.
Десятиклассники курят во дворе школы.
Еще они пьют вино в раздевалке, громко смеются, сплевывают на кафельный пол, матерятся, пытаются неумело обнимать десятиклассниц, рассказывают, как им кажется, смешные анекдоты.
И вот теперь они – мертвые.
Их нет, и чудом уцелевший водитель по фамилии Плиев, который вез их на линию фронта в рейсовом автобусе по объездной Зарской дороге, рассказывает, как они попали в засаду, и их – безоружных пацанов – расстреляли из автоматов.
Плиев прячет глаза, потому что он остался жив, а их уже нет.
Все ждут от него покаяния, и тогда он встает на колени и начинает молиться.
Его хриплый, срывающийся голос едва различим, он слабо дребезжит, что чайная ложка во время размешивания сахара внутри кружки с толстыми, покрытыми растительным орнаментом стенками.
Толстые стенки заглушают звук.
Толстые стены родовых башен сложены из огромных, специально подогнанных друг к другу камней.
На деревянных лавках, сколоченных из свежеструганых досок, сидят те, кто составляет род. Их лиц уже не разобрать, они затерты песком, изъедены солью, увиты диким плющом, проросли шипами сухостоя.
Они облупились.
Они могут делать лишь так: «тррруу-тррруу», тем самым полностью уподобливаясь цикадам, что живут у них в волосах.
Женщины принимаются таскать Плиева за жидкие, всклокоченные волосы, причитая: «Умри, шакал, умри!» Но он не умирает, потому что Господь до поры не подает ему смерть.
Поезд уже подан.
Она медленно добредает до своего вагона. Какое-то время медлит, прежде чем окунуться в пахнущую углем темноту, боится даже посмотреть туда, где полосатые матрасы свисают с верхних полок, но в конце концов все-таки делает шаг в тамбур, переступая узкую бездонную щель между платформой и рифленым стальным козырьком приступки.
Поезд тут же и трогается, начинает скрипеть, рычать, дышать тяжело и неритмично, переваливаться из стороны в сторону на стыках, качаться, разумеется, а еще перепоясываться лентами пристанционных огней, что крестообразно расчерчивают пол и потолок, руки и занавески на окнах, вспыхивают и мгновенно угасают в дверном зеркале.
Она стоит в дверном проеме.
Она рассматривает свое отражение в зеркале.
Видит себя стоящей в бесконечной длины коридоре, едва озаряемом сполохами светофорных огней. Здесь, в полумраке, пытается нащупать выключатель, но из этой затеи ничего не выходит.
Стало быть, так и придется стоять почти в полной темноте, всматриваться в свое отражение в зеркале и не узнавать себя.
Это совсем не то лицо, которое она знала раньше, – абсолютно чужое, сосредоточенное, с острыми морщинами вдоль поджатых, выражающих постоянное раздражение губ. Что могло произойти с ним за столь короткий срок? Ведь еще совсем недавно она казалась себе улыбчивой и даже смешливой. Более того, она выглядела значительно моложе своих лет, и когда открывала свой истинный возраст, то вызывала искреннее удивление и даже зависть окружающих.
Нет, она настойчиво продолжает верить в то, что ни в чем не виновата ни перед собой, ни перед другими, что сейчас, находясь в этом вагоне поезда, с трудом переваливающегося на стрелках и стыках, поступает правильно. Совершенно правильно!
Однако ее губы начинают дрожать, прыгать, выписывать немыслимые кульбиты, и слезы почему-то не выдавливаются из глаз. Более того, глаза остаются при этом абсолютно сухими, они даже горят от этой сухости, от этого испепеляющего зноя ярости.
В чем же дело?
Она идет к проводнице и просит ее включить кондиционер, потому что сейчас умрет от духоты. Проводница в ответ только разводит руками.
И тогда она начинает кричать на проводницу. Из ее рта вылетает слюна, а из глаз вдруг начинают идти слезы. Это целый поток, целое наводнение из слез, истинный водопад, сквозь который уже не разглядеть ни вагона, ни полок, на которых притаились перепуганные пассажиры, ни проводницы, которая тоже что-то кричит ей в ответ, но голоса ее тоже уже не разобрать.
Апокалиптические всадники останавливаются.
Откуда-то из глубины молнией расколотого надвое ущелья до их слуха доносится истошный женский крик.
Всадник, едущий впереди, поднимает правую руку, и все замирают на месте, даже перестают дышать на время.
Будучи многократно усиленным, вопль заполняет скальные горловины, столь напоминающие разверстые рты, заросшие непроходимым кустарником низины, проточенные горными потоками щели, подобные глубоким, застарелым пролежням. Всадник опускает правую руку, снимает с седла медный, оплетенный кожаными ремешками рог, подносит его к губам и начинает трубить в него.
От пронзительного воя кожа трескается на лице его, а кровь начинает заливать рот и глаза, но всадник продолжает трубить.
Вид его страшен, и все другие всадники опускают глаза долу, чтобы неумолчно повторять слова: «Велик Бог! Велик Бог!»
Лица в ладонях – они затерты песком, изъедены солью, увиты диким плющом, изрыты оспой, покрыты болячками, проросли шипами сухостоя, они потрескались и облупились и теперь более напоминают рассохшуюся поверхность выжженного солнцем солончака, что теряется за горизонтом.
Болячки отсыхают и отваливаются, оставляя после себя небольшие, едва различимые углубления.
А ведь я прекрасно помню, как в детстве отковыривал себе эти самые высохшие болячки, оставшиеся после ветрянки, то есть те болячки, которые не отвалились самостоятельно. Они падали на пол, на придвинутое к стене кресло из гэдэ эровского гарнитура, на подоконник, на котором стояло высохшее алоэ, на ковер. И их тут же начинали обнюхивать бородатые верблюды, лошади, рыбы с плавниками на спине и на животе, остроухие собаки. Даже пытались их попробовать на вкус, но ничего у них из этой затеи не выходило, конечно, потому что все они были вытканы на ковре и оста вались всего лишь частью орнамента, хотя и имели воз можность таиться в зарослях дикого винограда, в листьях папоротника, где спали змеи, в высокой, доходящей чуть ли не до пояса траве, в кущах пунцовой крапивы ли.
Сначала он идет по городищу, где горячий ветер трубно гудит в платинового отлива ковыле, стелет его по земле, поднимает с обложенных досками могил высохшие цветы и выцветшие погребальные ленты. Затем он спускается в долину, откуда уже видны полуразрушенные постройки молокозавода, расположенного на северной окраине города, а отсюда до шоссе не более трех километров по прямой. Однако дорога петляет, приходится долго обходить заросшие густым кустарником овраги, перебираться через каменистый, перерезанный перекатами поток, восходить на изъеденные дождями глиняные уступы, наконец, протискиваться через ощетинившуюся ржавой арматурой дыру в бетонном заборе и плутать по бывшей заводской территории, где стояла танковая часть.
Наконец он выходит к автобусной остановке.
Здесь, под навесом, наскоро сооруженным из колотого шифера и мятых дорожных знаков, уже собралась толпа, она гудит, как пчелиный улей, все толкаются локтями, смеются, кашляют, вдыхают сухой, пропитанный пряными запахами разнотравья горный воздух, топчутся на месте, ждут рейсового автобуса.