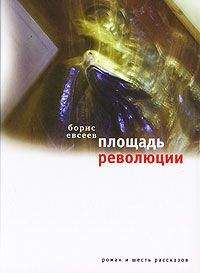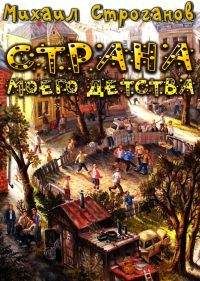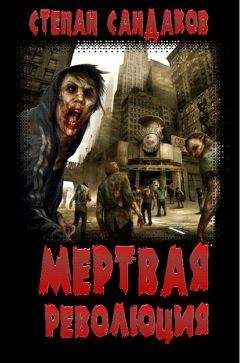Борис Евсеев - Площадь Революции. Книга зимы (сборник)
Опомнился толкователь действительности, а теперь уже и автор поспешно законченной (чтобы не возникло лишних вопросов) романной истории, только над рекой: на Чугунном мосту, в Замоскворечье.
И сзади, и впереди него, над Москворецким мостом и дальше, над Замоскворечьем, уже наполовину пригасившим огни казино, игровых залов, театров-вертепов, чуть в стороне от увешенных рекламными перетяжками улиц – стоял столбами великий и вечный свет.
Это был свет живых и свет погибших. Свет отлюбивших и свет только начинающих любить. Свет сгоревших мыслей и свет надежд, тайно возжигаемый далекими огоньками невозможного, слабо представимого, но сладко чуемого Воскресенья.
По-иному свет этот пронизывал и ночные облака: облака дивные, облака огнепрозрачные плыли в тот час над Москвой!
От света и облаков становилось ясно, спокойно. Словно не путь через все Замоскворечье до выкругленных МКАДом окраин, а может и дальше их, лежал перед автором, а одна короткая, вмиг преодолимая улочка.
Свет играл, свет поигрывал с човгающим по утоптанному, а затем тонко ошкуренному снегу повествователем, проникал в его мысли, выравнивал будущие слова, поступки. И скрыть что-нибудь от этого нежданного сиянья, от этого редко взрывающегося над Москвой светотворенья – было невозможно.
«А пытаются ведь! Тонны и километры мыслишек, слов и действий – под смехом и говорильней скрывают! Позорную утрату духовного и телесного благообразия – пустыми словами укрыть пытаются. Да как ловко, хитро!»
От собственной – тут же уясненной – наивности и от слабой загрудинной боли, вслед за ней возникшей, повествователь на минуту прикрыл глаза.
А когда раскрыл их – никакого светосияния не было уже и в помине.
Впереди был долгий, неясно представляемый путь. Современному исхлопотанному, занятому поисками мзды и выгод человеку в это трудно поверить, но повествователь не знал: куда идти?
Оглянувшись с моста, он попытался еще раз увидеть необыкновенный свет, или хоть – меж шпилей и башенок – отблеск падающей звезды (которую по уговору с собой можно было за что-нибудь символическое принять).
Но никакого света он не увидел.
Зато увидел другое: сзади, за рекой, над развалинами гостиницы «Россия» выгибал себя круто тройной дымок. Впереди же и сбоку, близ решеток Чугунного моста, услышалось ему ворчанье собак.
«Этого только не хватало…»
Он ускорил шаги, но через минуту оглянулся еще раз.
Три женщины с собачьими головами и с собачьими лапами, в длинных змеящихся серых накидках, померещились ему в грязненьких отвалах снега на месте разрушенной и чуть дымящей после дневных работ гостиницы «Россия».
«Как те эринии. Или это фурии? Да, пожалуй. Как в опере Евстигнея… Евстигнея, как его…» – он вдруг забыл фамилию композитора, о котором толковал ему сладкозвучный контрабасист и спившийся циник Яша Садомиров.
«Верно, фурии. Они терзают душу, выгрызают сердце, а потом… потом уводят в ад. Только почему – головы у них собачьи? Ну да, понял: от прикосновения к нашей жизни даже фурии собаками становятся».
Подняв воротник длинного серого пальто, повествователь заторопился дальше, вперед.
И беды его и тревоги
Бегут, как собаки, вослед… —
припомнилось ему вдруг.
Тогда, рассмеявшись, он твердо решил: ни от чего не прятаться. Даже от одичавших собак. Даже от покусывающей острыми клыками власти. Даже от угрызающих – быстрей и лучше собак и власти – фиксатых уличных бандюков…
«Но ведь собаки бегут, волки бегут и… очищают. Может, террор революционный придет, очистит? Так? Так, что ли, вышептывала женщина в красном картузе, в метрошной форме? Да, вопреки всему словоблудию – придет, грубо вычистит, а потом сам собой уничтожится. Придут волки и собаки и, как в библейско-античные времена, выгрызут всех, а потом молоком собачьим новых сынов выпоят.
Только ведь это – ужас, ужас. А как этого стародревнего ужаса хочется! Еще б разок хлебнуть его…»
Повествователь стал зачем-то представлять скульптуры с «Площади Революции», стал мысленно лепить к ним крылья…
Ничего не выходило. Скульптуры в сознании его рушились, ломались от первого же прикосновения. Тогда он представил вместо скульптур живых людей, и они представились:
Иов Праведный,
Воля-мученица,
Андрей – сильный мужик,
Евстигней – душа муз —
зимним клочковатым туманом бугрились они у схода с Чугунного моста.
Он снова обернулся.
Три контура трех крылатых собак, три облачка, как души городских эриний, оставленных на ночь без кровавой, без лакомой пищи, восходя над Москворецким мостом, плыли ему вослед…
«Человек – сын блудный – только таких вот собак и заслуживает. Но человек – воскреситель отцов – вряд ли. Справедливо ли на всех таких-то собак насылать?…»
Вдруг сочинитель резко остановился. Он внезапно понял, куда ему нужно идти. И теперь уже не шел – бежал по Чугунному мосту! Вскоре он свернул в совершенную глушь, куда-то в Овчинниковские переулки. И – через пустыри, через новострой и разруху, по задворкам, по ковровым дорожкам посольств – дальше, глубже!
Минут через пятнадцать замерцало по левую руку синим адским пламечком никак не угомонящееся казино, мелькнули покуривающие и смачно плюющие в снег охранники, мягко отделившийся от синих огней джип обдал снежной кашей…
Свернув в пологий, сбегающий к Водоотводному каналу переулок, сочинитель действительности вдруг вспомнил, как приходил сюда же – и все тем же дальним утомительным путем с Тверской, запертой по краям танками, – пятнадцать лет назад, в 91-м.
Тогда все начинавшееся – смеялось, пело. Но иногда и постанывало, и покрикивало диковато у краешков губ. Площади тогдашние – еще без признаков телесного рабства и денежных тоскований – искрились надеждой, брызгались будущей славой.
– Время – эриний! Время змееволосых, с собачьими когтями эриний, время терзающей жадности и сучьей ласки – сквозь нас пролетело… – бормотал про себя повествователь. – Время терзающее, но и архинужное – мы все прожили. Или оно само прошло. Эринии сгинули, фурии – в аду… Взрывы, пожары, тротил, пластид – что дальше?
Перестав казнить себя безответными вопросами, он заторопился – скорей, смелей! – к нарисовавшейся внезапно цели.
– Никому не нужно… А им, им – отдам. Пятнадцать лет, все напряги – всё пропадом, всё впустую. Всё не в склад, не в лад… – бубнил и бубнил про себя вконец расстроившийся повествователь. – И не я один. Все наши серьезные сочинители – в прогаре! Все мы в последние годы видимость видимости создавали. Фикции множили. Мало среди нас настоящих философов повествовательного текста! А среди философов нет владеющих слогом и безо всяких заморочек воплощающих действительность.
Чтобы унять волнение, он стал думать про место, куда идет: «Светит, наверное, ночник. Спит на втором этаже сторож в тулупе. (На современную-то охрану денег, поди, нету.) Рядом со сторожем – шапочка лыжная, на ней бомбон, натюрлих. (Сторож старик – а по-молодому одеть себя любит.)
Словом, сторож спит, тихо попискивают и на ночь не выключаемые факсы, синенькие и красные точки на факсах во тьме мерцают, в невыключенном компьютере звездочки бегут, бегут – исчезают…»
Дойдя до дверей узкооконного, крепкого, старой постройки дома, обнесенного с улицы незапертой решеткой, автор эссе и романной истории подергал дверь. И тут же опомнился: «Сдурел? Ночь же».
Присев на корточки у запертой двери, он достал из пакета с болтавшимся в нем стареньким ноутбуком плоскую бутылочку с коньяком, отпил три-четыре глотка, потом еще столько же. Тепло, давно не ощущавшееся им ни дома, ни на улице, побежало по плечам, по ключицам.
Очнулся он уже на рассвете. Морозец за ночь ослаб.
Было пять, может, шесть утра.
Быстро вынув из старенького ноутбука диск, повествователь завернул его в бумажку, написал на бумажке несколько слов. Потом подсунул диск с бумажкой под высокую, закованную в железные узоры дверь. Чуть подумав, прислонил к двери и пакет с ноутбуком.
«Не нужен теперь, – смутно помыслилось автору, – рукой, рукой писать надо. А история романная… Пусть вроде той голой Воли: живет себе как знает. Кого терзает, кого голубит, кому песенки в уши насвистывает…»
Целя как можно дальше от кованых дверей, он выплеснул остатки хмельного в снег и, запретив себе возвращаться прежним путем, не желая, а может и побаиваясь снова увидеть злобных, по-утреннему голодных и тощих собак (теперь, на ясную голову, уже ни с какими эриниями не схожих) – сначала по Устьинскому мосту, потом по набережной, мимо Китайгородской стены, мимо развалин, разъезжаясь ногами на сплошной наледи, образовавшейся после обрушения громадного здания, припустил к ближайшей станции метро.
Повествователь спешил. Спешил, потому что пришла ему в голову нежданная мысль: конец истории, конец книги зимы должен быть вовсе не текстом. А должен быть живой, к тексту и к зиме телесно прилепленной, вчера непонятно как исчезнувшей женщиной!