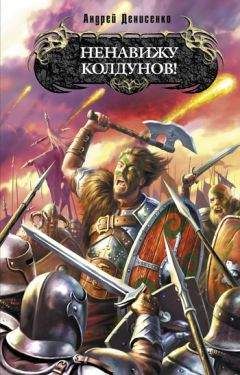Роман Сенчин - Мы памяти победы верны (сборник)
А когда эти два человека все же сблизились и совместились, то как будто уж лучше б не соединялись. Потому что теперь уж сильней, чем телесная притупленная боль, донимал, изводил, погрызал и вот даже придавливал к койке вопрос: а на что и кому теперь нужен такой? Вроде бы и вопрос-то неправильный, для иных оскорбительный, неправомочный. На соседних-то койках – без обеих вот рук или ног инвалиды. Были и вообще «самовары»: этим как? без конечностей всех? Сквозь сведенные челюсти выпускали такое проклинающе-гиблое, одинокое «а-а-и-и-ы-ы-ы», что и зверю, наверно, никакому неведомо. Вот уж кто навсегда неспособен не то что самокрутку свернуть, но ее и ко рту поднести, сам себя обиходить не может, вот кому по земле никогда не ступать и глядеть до скончания дней сквозь окошко на синее небо и солнце, вот кому уж теперь-то – куда? И немедленно сносной и как будто бы даже пустячной в свете этой безвыходной несправедливости, боли чужой начинала казаться потеря своя. Уж сгодится в народном хозяйстве на что-нибудь и с одной рукой: даром грамоте, что ли, обучен? Отец и мать тебя любого примут, хоть без руки, хоть без ноги, хоть дурака после ранения, да будь хоть с фронта дезертир, вовеки проклятый во всем народе и презренный, – и то, наверное, возникни на пороге, от всех таящийся, повсюду бесприютный, – не отвернется мать, нутра не пересилит. Как это некуда ему, Зубилову, идти?
Лишь о Наталье мысль: как она его такого встретит, что у нее в глазах возникнет, как оскользнет его голодным взглядом сверху донизу и в пустоту провалится под правым-то плечом? Нешто согласна будет опереться на такого, соединив с калекой будущую жизнь? Вот что его, Зубилова, придавливало к койке и глаза заволакивались едкой мутью, как только взглядывал в родную сторону, в том направлении, в котором должен был уже скоро унести его поезд. И вот как только ни уверял его пожилой Рудаков, инвалид без ноги, в том, что русская баба бросить мужа в увечье не может, поперек своей собственной сути пойти, от здорового может сгульнуть, коль шлея ей под хвост угодит, а (а зачем это «чтобы?», мешает оно, в предложении есть слово «может»: может сделать это, а калеку оставить – нет) калеку оставить – про такое он в госпиталях, Рудаков, за все время ни разу не слышал.
Только то ведь жена, что уже допустила до себя мужика ближе некуда, прилепилась к нему, держит вместе их сила предшествующей жизни: общий дом, общий пот и мозоли, столько уж страдных лет, долгих зим, может быть, и рожденные дети, что-то в ней уже вызрело, выросло, несгибаемо прочное и постоянное, как любовь материнская. А Наталья не то что ему не жена, но и сговора никакого у них до войны не случилось, ничего, кроме робких, украдчивых рукопожатий да взглядов в любимой молодыми игре «кто кого пересмотрит». Обещала писать и писала: «Дорогой друг мой Петя! Шлю тебе свой сердечный привет. Получила твое письмо, и у меня от радости руки тряслись, как узнала, что ты жив, здоров. Сразу стало спокойно, и я отдохнула немного душой, но на сердце все равно лежит камень, так как время уже пробежало, и я снова не знаю ничего о тебе. У меня вся душа прозябла, думая, как ты воюешь и какие муки терпишь. Только бы обошли тебя все проклятые бомбы и куда-нибудь вас отвели, чтобы вы отдохнули немного. А за нас не волнуйся. Мы с подругами и стариками, как можем, работаем, а это – с утра до ночи. Нам теперь тяжело, так как молодых парней у нас уже в колхозе не осталось, всех забрали на фронт, даже самых худых мужиков с пожилыми, считай, всех забрали. А работать надо с бодростью, потому что весь почти хлеб, который мы соберем, отправляют на фронт, и государству будет от нас против фашистов польза. Может, и ты наш родной хлеб испробуешь. А ночью я еще носки и варежки вяжу, это тоже на фронт, так как скоро зима, а вы там и ночуете, может, на голой земле, потому что с позиции вас никто не отпустит. А соседи наши, Дикаревы, вчера на третьего сына похоронку получили, на Кольку. Убили его подо Ржевом, а где этот Ржев, никто из нас и не знает сильно. И опять на меня наступила тоска, потому что так много парней из деревни побила война. Я молитвы читаю, когда дома одна, и тебе напишу, чтобы ты, может быть, почитал перед краем, когда вам воевать предстоит, хоть я знаю, что ты комсомолец и против религии».
Вот такие ему от нее были письма: у кого хватит силы после строчек таких не поверить, что Наталья присохла к нему. Так теперь и заочницы в письмах клялись в вечной верности тем, кого вживе ни разу не видели. Весь иззябся, продрог одинокой душой человек и в тылу, и на фронте, и единственное, что могло утолить его сердце, было сердце другого единственного человека. Только в письмах с чернилами вместе могла изливаться тоска и копившееся без исхода желание любви, было жизненно важно излить свою нежность, отворить свою душу сейчас, а о будущей жизни никто как бы вовсе не думал.
Свободных мест в их госпитале не было, а раненых бойцов все прибывало, не один батальон, не одна даже армия, так что дело зубиловского излечения… умаления боли?.. пробуждения к жизни?.. примирения с собственным телом?.. подвигалось к концу, к «больше мы вас держать не имеем возможности». Главный врач, Александр Кириллович, все просил ранбольных (именно ранбольных, это казенный штамп того времени, эпохи) написать домой письма, сообщить без утайки всю правду об их положении, подготовить отцов, матерей или жен, попросить, чтоб приехали те, если могут, в Саратов, и забрать их отсюда. И, конечно же, многие – кто без рук, кто без ног особливо – таких писем еще не писали и писать не хотели, ровно переродившись в себе, в новом теле, и закоренев в убеждении, что уж лучше пусть жены считают их мертвыми или пропавшими без вести.
Самолюбивая мужская дурь, неверие в женщин, которые помнят их прежними, сильными, ладными; стыд за свою непоправимую огрызочную нищету, нежелание отягощать молодых и красивых и испытывать их своей немощью, принимать от них в жертву, заедать красоту их и молодость, – все это жгучее, каленое, железное, раздуваемое в человеке мехами его собственных легких, как уголья в печи, с бесповоротностью тащило их от дома, загоняло их в новые города и пристанища, где никто их не знал и не мог сличить нынешних с прежними.
Кое-кто из безногих обучался тачать сапоги и скорняжничать, устраивался жить среди таких же инвалидов в артелях камнерезов, столяров, гранильщиков, лудильщиков, портных. Но куда больше было других – становившихся вмиг перекатной голью, пьющих горькую, вечно поддатых, торговавших на каждому углу папиросами вроссыпь, без пощады терзавших баян или прямо вымогавших угрюмым молчанием милостыню, прямо здесь, на саратовских улицах и базарах, оставшихся.
Он, конечно, не думал о бегстве в бродячую жизнь, о затворе в каком-нибудь дальнем инвалидном приюте – про то уж говорено, что не так его обезобразила, обессилила и сократила война, чтобы отворотиться от родной стороны безоглядно. Но и письма со всею правдой о себе родителям еще в деревню не отправил. Уж Наталья узнала бы мигом: по деревне все слухи бураном проносятся. Да и бегает, может, каждый день на зубиловский двор: нет ли весточки новой какой от Петра? Не решался никак. Будто ждал, – над собой измывался, – что рука отрастет.
Сам не мог написать: вот и ложку-то левой рукой держать приловчился не сразу, а буквы… вот попробуй-ка ты накорябать хоть «мама» и «папа» – да уже после первых корявых извилин, с прилежанием пыточным пройденных, бросишь к черту перо-карандаш да еще непослушной рукой по столешнице что есть мочи засадишь со злобы. Это сколько же надо терпения! Да уж проще явиться домой во плоти, чем послать вперед весточку: ждите, вот такой к вам вернется герой.
Под диктовку безруких соседи рукастые да медсестры могли написать, только вот не хотелось доверять никому сокровенное, выворачивать душу на позор с кривотолками. И вообще человека чужого просить хоть о чем. И еще тем сильней не хотелось, что Зубилов уже понимал, что одной рукой без подмоги мало с чем может справиться, даже с самым простым, что не скоро еще приловчится сам себя обихаживать даже (ну а пуговицы, скажем, к рубашке никогда уж себе не пришьет, как бы ни искрутился), что ему о подмоге придется просить всю дальнейшую жизнь: как кобылу запрячь, править ею, косить, править нож, насадить его на косовище, с молотком и гвоздями, фуганком, лопатой, вилами управляться сподобиться… – натыкался на каждом шагу на торчащие отовсюду сучки и проваливался в смехотворные ямки, для здорового не существующие.
И такой-то он сможет составить для Натальи вседневное счастье или хоть сделать так, чтоб не ведала горя и тягот, что и так уж хлебнула, поди, через край за все время войны? Неустройства в хозяйстве, в дому чтоб не знала, недостатка ни в чем, что ей должен и может обеспечить здоровый мужик? Да стеснит ведь и свяжет ее по рукам и ногам своей немочью, все труды на нее перевалит, загоняет, всю жизнь будет мучить беспрестанным своим «принеси» да «подай». И чего она ради без устали и передыху крутить себя будет жгутом, отжимая до капли – ему, все ему? И, положим, не спросит за целую жизнь: «а когда будет мне?», «будет что-нибудь мне от тебя?», никогда его немочью не попрекнет, неспособностью выправить ничего из того, что в хозяйстве расстроилось и покривилось, – что ж, готов он принять от нее эту службу?