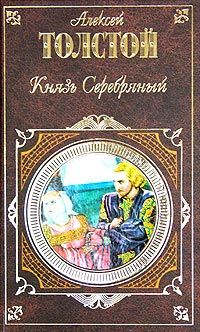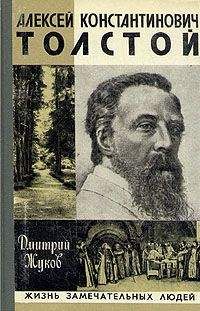Валерий Панюшкин - Все мои уже там
– Как проколол пузырь?
– Ножницами, как еще?
– Какими ножницами?
– Какие на кухне были, такими и проколол. Других-то нет.
Тут я чуть не обнял его. Огромную его фигуру, стоявшую лицом к окну, чуть не обнял. Я вдруг осознал совершенно, что ответственность за родовспоможение мне на себя брать не придется, а взял ее уже на себя Толик. Я отправился в ванную, включил воду и, намыливая щеки, прокричал:
– Анатолий, так вы у нас акушер?
– Да нет, – отвечал Толик великою русскою фразою, амбивалентность которой нельзя объяснить ни одному иностранцу, изучающему русский язык, – да нет.
– Но роды принимали? Или вам в милиции теоретически объясняют и теоретически учат протыкать ножницами околоплодный пузырь?
– Да нет. В милиции не объясняют. С бабкой роды принимал, немного, раз двадцать. Меня девать было некуда, а потом-то уж и бабка состарилась, – он помолчал. – Ничего, родим щас нормально.
Сквозь шум воды я услышал в голосе Анатолия некоторую гордость и некоторое смущение. Я подумал: ни черта себе акушерский опыт у этого парня. Двадцать родов. Двадцать деревенских родов с бабкой-повитухой. Так мы в надежных руках! Я умылся, вытер лицо, расчесал усы, вышел из ванной и спросил, быстро одеваясь:
– А что такое зеленые воды? – Этот термин я слышал впервые и до сих пор не знаю, медицинский он или повитушечий.
– Это когда ребенок в матке испугался чего-ничего и обкакался, – Толик объяснял спокойно и нараспев, в интонациях его появился новгородский какой-то бабкин говорок, очень утешительный.
– Это плохо – зеленые воды? – спросил я.
– Да нет, ничего. Родим щас нормально. Главное, чтобы не хлебнул этого говна. Поэтому рожать надо быстро. А она орет, – Толик замолчал и прислушался. В подтверждение его слов откуда-то издалека действительно донесся вопль Ласки, такой истошный, словно женщину резали. – Надо уговорить ее. Ну, вы готовы?
Я был готов. Мы вышли из моей спальни и стали спускаться по лестнице вниз. Толик шел нарочито медленно, как бы всем своим видом стараясь распространять спокойствие вокруг себя. Шел как будто на прогулку. И продолжал объяснения:
– Зеленые-то воды плохо, – говорил Толик, оборачиваясь ко мне, – когда младенчик ногами лежит. А у нее-то мальчик лежит головой.
– Откуда вы знаете, что головой? Откуда вы знаете, что мальчик? – Черт побери, я любовался им! Я им любовался!
– Что головой-то лежит – на ощупь. А что мальчик-то – так красивая она очень.
– В каком смысле?
– Девочки у матерей красоту-то забирают. А Ласка красивая очень. Значит, мальчик. У мальчика-то не красота, а тук. Тук – от тятьки.
Я хотел было спросить, что такое тук, но истошные крики Ласки раздались снова, да и мы подошли к дверям гостиной.
В гостиной на диване, скрючившись, лежала Ласка. Лицо у нее было красное от натуги, но действительно очень красивое. И она кричала. А рядом с нею сидел Банько и держал ее за руку. Он был белый как мел.
Толик подошел к Ласке, опустился рядом с ней на колени, погладил по голове и сказал тихо, но властно, с бабкиной интонацией:
– Слышь ты, девочка. Ты не ори. Орать-то очень много сил уходит. Придет время тужиться, а у тебя сил-то не будет. А у тебя зеленые воды. Родить-то надо за две потуги, а то хлебнет.
Схватка прошла. Ласка всхлипывала. Толик продолжал гладить Ласку по голове. А потом повернулся ко мне и проговорил:
– Алексей, скажите ей. Мне-то она не верит.
Я склонился над диваном, поцеловал Ласку в мокрый лоб, пожал ей руку и подтвердил Толиковы слова:
– Орать правда не надо.
Толик удовлетворенно кивнул, так, как если бы я разъяснил его рекомендации с научных позиций. Выпрямился, протянул Ласке руку и скомандовал уверенно:
– Вставай.
– Я не могу встать. – Ласка смотрела испуганными глазами.
– Можешь-можешь! Вставай-вставай! Схватки-то лучше переходить на ногах.
Ласка растерянно взглянула на меня. Я кивнул: «Лучше на ногах». Хотя, честно говоря, впервые в жизни слышал, что схватки лучше переходить на ногах.
Опираясь о Толикову руку, Ласка встала. Толик взял ее под локти и повел по комнате. Первые шаги были неуверенными, но постепенно Ласка расходилась. А Толик сказал:
– Когда схватка-то начнется, ты не ложись. Ты обопрись на диван. Или на меня обопрись. И пережди. И подыши побольше. И не ори, главное.
Через несколько мгновений началась новая схватка. Ласка оперлась о Толика, положила ему голову на грудь, но, видно, не могла найти себе места, оттолкнула Толика, обернулась к дивану, положила руки на спинку…
– Не ложись! – скомандовал Толик. – На колени стань, если тяжело.
Ласка опустилась на колени. Положила голову на руки. Принялась стонать. А Толик широкими движениями гладил Ласку по спине и бормотал что-то.
– Слышишь, я молитву говорю. И ты молитву-то говори. Помогает.
– Я не слышу! А-а-а-а! – в словах ее и в крике больше всего было капризных интонаций избалованной девочки.
– Не ори! Слушай! – Толик продолжал гладить Ласку по спине. – Я громче буду говорить. А ты повторяй. Господи, Пресвятая Троица, Матушка Царица Небесная, преподобный Серафим, положи хлебушком, подыми веничком, за веничек – кочерга, за кочергу – шильце, за шильце – мыльце: выведи нашу детку вон.
– Господи, Пресвятая Троица… – начала Ласка, но тут схватка прошла, а вместе со схваткой прекратился и языческий этот наговор. Ласка обернулась к Толику и огрызнулась, как зверек. – Каким еще веничком?
Толик поднялся с колен, развел руками и посмотрел на меня, словно бы ища поддержки. Настал мой черед водить Ласку по комнате. Мы ходили из угла в угол, и я говорил:
– Послушайте, по-моему, все равно, какие слова произносить. Хоть стихи читайте. По-моему, просто если говорить что-то, то тогда дышишь лучше и легче не кричать. А кричать не надо, потому что…
– Вот именно, – встрял Толик. – Какую хочешь молитву говори. Хочешь Отче наш, хочешь Богородицу. Лучше Богородицу…
Началась новая схватка. Ласка опять опустилась на колени и оперлась о диванную спинку. Толик опять принялся гладить Ласку по спине. На этот раз хором Толик и Ласка стали читать Богородичную молитву. Ласка бормотала, Толик читал громко:
– Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой, положи хлебушком, подыми веничком, за веничек – кочерга, за кочергу – шильце, за шильце – мыльце: выведи нашу детку вон.
Несмотря на схватку, Ласка засмеялась. Засмеялся и я. И даже Банько слегка улыбнулся, и меловая бледность слегка сошла с его щек. Волшебным образом этот смех помог Ласке перенести схватку так легко, как никогда прежде. Схватка закончилась. Толик встал и сказал:
– Чего вы ржете?
И я подумал, что вот же Гильгамеш, выходя из царства мертвых – смеялся, а Орфею нельзя было оглядываться, а батюшка Илларион в нашей деревенской церкви кричит на Пасху «Христос воскресе!» – и сам смеется своему писклявому крику, вырывающемуся из медвежьего тела. Потому что, если провожаешь кого-нибудь в царство мертвых – плачь, а если хочешь вывести кого-нибудь в мир живых – действуй безоглядно и изволь смеяться.
– Чего вы ржете? – повторил Толик.
И мы все трое снова покатились со смеху.
Так или иначе, метод Толика подействовал. Когда начиналась новая схватка, Ласка опускалась на колени, клала руки и голову на диванную спинку, принималась громко читать разные молитвы, но с одним и тем же окончанием: «Отче наш, иже еси на небесех, положи хлебушком, подыми веничком, за веничек – кочерга, за кочергу – шильце, за шильце – мыльце: выведи нашу детку вон». И всякий раз смеялась. И схватки проходили легко.
Минут через двадцать Толик констатировал:
– Ну, вот, научилась, – и, обернувшись к Банько, подмигнул: – Можно бы и пожрать, повар. А то еще часа четыре тут колготиться-то без еды. Без еды-то помрем.
Банько побледнел и прошептал:
– Я не могу.
– Чего не можешь? – Толик сграбастал повара с дивана, поднял в объятиях и поставил на ноги. – Яичницу-то пожарь. Я инструменты приготовлю. А профессор походит тут с ней.
Профессором Толик почему-то называл меня, когда пребывал в благодушном настроении.Следующие полчаса мы с Лаской прогуливались по дому из гостиной в кухню и обратно, пережидали схватки, молились смешными молитвами, а Толик и Банько занимались делом. Банько, кажется, так и не сумел вернуть себе самообладания. Всякий раз, когда мы заходили на кухню, бедняга ронял что-нибудь, бил какую-нибудь посуду или резал себе пальцы острыми ножами, каковые в другие дни так и летали у Банько в руках.
Хихикая и обсуждая, посвятить ли следующую просьбу «положи хлебушком, подними веничком…» преподобному Серафиму, архангелу Михаилу или неканонизированному еще святому академику Сахарову, мы с Лаской заходили навестить Банько, но тут – бац! – падала со стола и разбивалась в дребезги бутылка оливкового масла. Банько вздрагивал всем телом, на глаза ему наворачивались слезы, он приседал собрать осколки и бормотал: