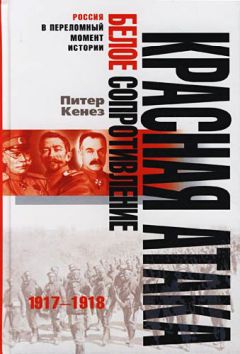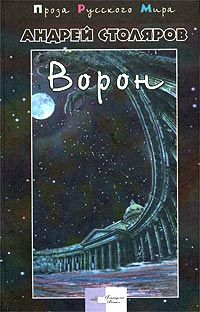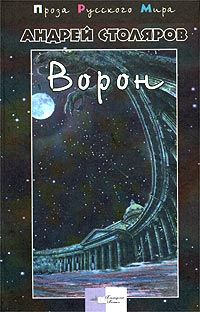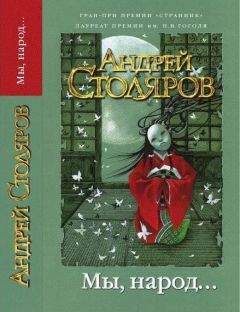Андрей Столяров - Обратная перспектива
Вот, старик, такой получился абзац. Но это лишь присказка, далее начинается самое интересное. Буквально в день моего возвращения из Нью-Йорка в Иерусалим мне позвонил некий молодой человек и, представившись сотрудником Центра по изучению иудаизма одного из провинциальных американских университетов (где такой Центр, как я знаю, действительно есть), попросил уделить время для небольшой консультации. Встретились мы с ним на следующее утро в кафе, и этот молодой человек, кстати визитки не давший и представившийся просто Арон, наговорил мне множество комплиментов, с некоторой запинкой перечисляя названия моих книг (видимо, как раз перед встречей лихорадочно их зубрил), заверил, что он давно является моим последователем и восхищенным учеником, что он счастлив наконец узреть воочию человека, перед которым преклонялся всю жизнь, а далее безо всякого перехода спросил, чем вызван внезапный мой интерес к осовецкому хасидизму и какими материалами я на эту тему располагаю. Я довольно легкомысленно ответил ему, что, вообще говоря, хасидизм, тем более такого крайнего толка, в сферу моих интересов отнюдь не входит, я просто наводил справки по просьбе одного моего коллеги и старого друга; вам, видимо, следует обратиться к нему. Молодой человек немедленно поинтересовался фамилией моего старого друга, с которым, как выяснилось, он просто жаждет установить прочный рабочий контакт, и вот тут, старик, до меня наконец дошло. Все-таки не зря я первые двадцать пять лет жизни провел в СССР. Я выпрямился, принял холодный академический вид и надменным голосом заявил, чтобы он таки не морочил мне голову: если он из «Моссада», пусть так прямо и говорит. Я таки хочу знать, чем вызван этот допрос? И представляешь, старик, что самое удивительное? Молодой человек, этот Арон, вдруг засмущался, как девушка, и покраснел. Несколько минут он бормотал что-то невразумительное, ерзал на стуле, чертил пальцами по столу, а потом, извинившись, сказал, что ему требуется позвонить. Сквозь распахнутое окно я видел, как он говорит – зачем-то горбясь и прикрывая трубку рукой. За сто метров было понятно, что человек ведет секретные переговоры. А когда минуты через четыре он вернулся в кафе, то, по-прежнему краснея и запинаясь, сказал, что он действительно из «Моссада», удостоверение мне показал и признался, что им было бы очень важно выяснить фамилию моего друга. Если я, конечно, сочту возможным ее назвать. Знаешь, этот Арон был трогателен в своей наивности. У него пламенели даже мочки ушей. Ну, тебе, вероятно, можно не объяснять, как я, проведя молодость в Советском Союзе, отношусь ко всякого рода спецслужбам. И хотя «Моссад» – это, конечно, не КГБ, но формат тот же самый – ползание по крысиным ходам. Терпеть этого не могу. В общем, я тем же тоном ему заявил, что никаких сведений ни о ком никому давать не обязан, что я ученый, а не проплаченный «крот» в научной среде и чтобы больше ко мне с подобными предложениями не обращались – в противном случае я буду вынужден этот наш разговор огласить. Тогда мой Арончик совершенно завял. Он стал похож на студента, который пришел на экзамен абсолютно неподготовленным. Рассчитывал, вероятно, на чудо, а чуда не произошло. Мне даже стало его немножечко жаль. Стажер, наверное, еще практикант, и вот пожалуйста, провалил первое же задание. На том мы с ним и расстались. Причем Арончик на прощание пролепетал, чтоб я, если вдруг передумаю, обязательно ему позвонил.
Загадочная история, не находишь? Не думаю, что в «Моссад» стукнул сам ребе Шлемон, скорее – кто-то из его близких учеников. Напомню, кстати, что израильская разведка считается одной из лучших в мире, и это не «этнический нарциссизм», как ты где-то писал, а установленный медицинский факт. Если уж она что-то почуяла – будет копать. А теперь скажи мне, пожалуйста – чем это ты в действительности занимаешься? Какое осиное гнездо ты разворошил? Это случайно произошло или, может быть, ты ввязался по глупости в какой-нибудь полукриминальный гешефт? Старик, на тебя это не похоже. Ты всегда был человеком разумным и от такого рода вещей старался быть в стороне. Или я чего-то не понимаю? Имей в виду, хоть я твоей фамилии героически не назвал, но выяснить ее, как мне кажется, труда не составит. Так что будь на всякий случай готов. И это, по-моему, одна из самых неприятных сторон, которой обладают спецслужбы любой страны. Они заражают подозрительностью все вокруг. Теперь, общаясь с любым человеком, ты будешь думать, он просто так разговаривает с тобой или скачивает информацию, чтобы представить соответствующий доклад? Ладно, мое дело – предупредить, а дальше сам уж соображай – где, что и зачем.
Скажи лучше, как ты живешь? По-прежнему, дыша пылью веков, лелеешь гениальные замыслы? Если так, молодец! Это я тебе говорю и как человек истинно русский, и как слегка сумасшедший еврей. Жить надо так, чтобы вокруг было сияние. Иначе скучно, старик! Скучно, муторно, сперто, как в тараканьей норе. Да, и, чуть не забыл, как там неутомимый наш Еремей? Мне тут случайно попалась в руки пара его публикаций. Одна о державности, коя есть историческое предназначение великой России, а другая о врожденной духовности русской нации, коя опять-таки есть ее исторически предначертанная судьба. Очень своеобразный концепт! Наш Ерик что – ударился о православный патриотизм? Так ведь недолго и голову зашибить. Нет, пора-пора, чувствую, посетить мне мою малую родину, все-таки не был там – страшно представить – аж двадцать лет! Целая жизнь, можно сказать, прошла. Говорят, что у вас уже и на улицах перестали стрелять, и медведи по Невскому больше не бродят, и водку, трудно поверить, продают на каждом углу. Так что жди, постараюсь приехать где-нибудь в октябре. Заодно и Ерику вправим мозги. Жалко, честное слово, совсем пропадет человек. В общем, до встречи, ауфвидерзеен, чао, гудбай, или как говорят на другой моей малой родине, лы хаим!..
Я иногда сочувствую этому мальчику. Иллюзии его развеиваются, превращаясь, как выразился один из философов, в «слепое ничто». Облетает декоративная позолота, вздуваются пузыри, сквозь фантомы сладкого бытия проступает облупленная фанера.
Вот он приходит в семинар профессора Милля, и под лампой, похожей на керосиновую, висящей в ребрах цепей над громадным дореволюционным столом, под звяканье мельхиоровых ложечек, в разговорах, в слоях дыма от сигарет с ним происходит преображение, которого сам он первоначально не замечает. Дремота неведения сменяется разрушительным знанием, смутные предчувствия и догадки кристаллизуются в сердце и начинают покалывать изнутри, картина мира разламывается на фрагменты и пересоставляется, оказываясь совершенной иной. Это своего рода ментальный метаморфоз, принудительное взросление, прощание с остатками детства.
Собственно, никакого семинара формально не существует. Просто два раза в месяц, по четвергам, Евгений Францевич Милль, профессор кафедры, доктор наук, приглашает избранных студентов к себе – якобы для консультаций по курсу, который он им читает.
Странная эта фигура, Евгений Францевич Милль. Ничего определенного им, студентам, о нем, разумеется, не известно. Однако по случайным обмолвкам, по догадкам, по слухам можно понять, что учился он в Московском университете у самого Е. В. Тарле, сотрудничал с Платоновым, Любавским, Готье (дневник которого мальчик прочтет значительно позже), был вместе с ними арестован по «делу четырех академиков», вернулся из ссылки в середине тридцатых годов, снова был арестован в начале пятидесятых, после смерти Сталина вновь вернулся, только почему-то уже не в Московский, а в Ленинградский университет. С тех пор более тридцати лет преподает на историческом факультете.
Не из этой эпохи был человек. Гостей встречал в мягком клетчатом пиджаке, который на лекции, естественно, не надевал, обязательно – галстук (это ж надо – дома галстук носить!), очки, похожие на пенсне, бородка, как у товарища Луначарского. Квартира вообще – будто царского времени: театральные бархатные портьеры, бронзовые, со звериными головами ручки дверей, вместо стульев вокруг стола – тяжелые кресла, стены даже не в фотографиях, а, насколько можно было понять, в расплывчатых коричневатых дагерротипах, несколько небольших странных картин, про одну из которых Зенковский шепотом пояснил, что это сам Фальк. Имя мальчику ничего не сказало. Непонятно было, как это все пронеслось сквозь революцию, войну и блокаду. Прошлое, отвердевшее в неких культурных формах. Когда темнело и зажигалась та самая лампа, сияющая раздутым стеклом, казалось, что из черноты за двумя окнами, обращенными в колодезный двор, смотрит на них вовсе не Ленинград, уютный, спокойный, привычный, а все тот же мрачный, лихорадочный Петербург, сотрясаемый голодом, тифом и безумной революционной стихией. Шагают суровые отряды матросов, прибывших из Кронштадта, становится у Николаевского моста легендарный крейсер «Аврора», нечеловеческая энергия исходит из Смольного, где за стенами в метр толщиной мечутся в приступе социального творчества Лев Давидович и Владимир Ильич. Всё, «социалистическая ггеволюция, о необходимости котоггой так долго говоггили большевики, свеггшилась!.. Ура-а-а!..» А теперь – танцы, ехидно добавлял Ося Зенковский.