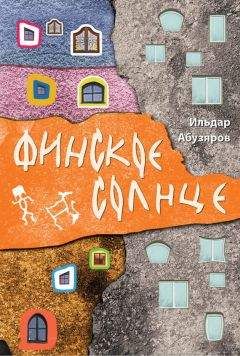Ильдар Абузяров - Курбан-роман
А бербер в это время берет бритву-опаску, собираясь соскоблить не сбритые волосы, и, бубня что-то себе под нос, наверное, читая молитву, подходит к Абдулу.
От этого бормотания, от всей ситуации собственной беспомощности Абдул, – словно от колыбельной песни – успокаивается и засыпает, вспоминая, как мама не раз говорила ему: хочешь проверить, заснул ты или нет, зажми в ладони какой-нибудь предмет, и если он выпадет невзначай из руки – значит, ты уже спишь, Абдул.
Мгновение – и голова сама собой опускается вниз, выпав из ладоней бербера. И вновь Абдул видит на своей рубашке пятна крови, значит, все-таки поранился. Или ему пустили кровь целенаправленно, как в цирюльне? И опять Абдулу хочется плакать и крутить головой по сторонам, как в детстве, в надежде на чудо, на неожиданное спасение.
Но чуда не происходит: Абдул опять всеми обижен и никем не понят. И, поддаваясь своей обиде, маленький Абдул, насупившись, смотрит исподлобья: а что там в конечном итоге получилось? И вдруг, о ужас, видит себя абсолютно лысым – снова маленьким лысым мальчиком, от которого он так хотел избавиться, спрятаться за волосами, вырасти вместе с ними раз и навсегда. Это, должно быть, бербер обрил его полностью, как верблюда или овцу, даже не узнав пожелание клиента о прическе – модельная или молодежная, – полностью сбрил ему волосяной покров, слой за слоем, слово за словом.
– Все, – говорит бербер то ли Абдулу, то ли сам себе, – наконец-то все.
– А массаж? – Мучимый совестью Абдул хочет продолжения экзекуции, словно просит: ударь меня по лицу еще раз.
– Давай, давай. – Бербер выталкивает Абдула взашей. Это и есть его грубый массаж.
– Извини, – только и находит, что сказать, Абдул, смиренно понурив голову и стыдливо опустив глаза.
– Ладно, – говорит бербер, немного успокоившись, – иди с миром. Здесь тебя простили.
И Абдул уходит, не в силах поднять глаза. Видимо, совесть мучает его очень сильно.
Свежий холодный вечерний воздух обжигает Абдулу обнаженную голову. Он садится на скамейку, съеживается – все-таки одной рубашки для осеннего вечера маловато, и только тут понимает, что значит по-настоящему любить и умереть. Ведь он действительно влюбился в Сарижат. Ему было хорошо с ней. А теперь ему очень холодно и одиноко. Ощущение шрама и боли в горле не проходит. Ему словно отсекли голову и вынули мозг специально для очищения от всех непристойных историй, как когда-то пророку Мохаммеду рассекли грудь и вынули сердце для очищения от малейшей скверны.
Но ему их нисколько не жаль, своих воспоминаний о прекрасной прошлой жизни, так же, как не жаль и самой жизни, насыщенной всевозможными историями, в том числе и этой последней и наиболее важной из всех. Напротив, Абдул очень благодарен берберу. Ведь реальное преступление требует реального наказания. Впервые Абдул чувствует себя смиренным носителем своего имени – покорившимся воле Всевышнего мусульманином.
Поняв это, счастливый Абдул поднимает глаза к небу. Облака шоколадно-кремового цвета – видимо, завтра в этих краях будет холодно, – как верблюды-пирожные с красными буденновцами-ангелами на лимонных горбах, движутся в теплые страны, куда ранее ушли его любимые женщины и куда, пристроившись к каравану, должен идти он. И, понимая это, сердце Абдула постепенно успокаивается…
Подстилка из соломинок
(Из цикла “Троллейбус, идущий во все стороны”)
Я шел понурив голову и ничего не ожидал от этих серых промозглых капель, как ничего не ожидаешь от капель валерьянки, когда пьешь их залпом, стакан, другой, третий… Разве что горечь и успокоение.
Кто пил по несколько стаканов капель залпом, тот меня поймет. Это сорок пузырьков по двадцать миллилитров. А их вам не дадут ни в одной аптеке. Разве что в пяти аптеках. А чтобы обойти пять аптек, нужны крепкие нервы. А мои нервы развязались, и шнурки тоже. Благо, небо Питера – это аптека рядом с моргом. Потому что сам Питер – это морг, и никакой фонарь здесь не поможет.
Сказать, что меня бросила девушка, или я задолжал крупную сумму, или утратил свой талант, значит ничего не сказать. Да, я был долговяз, да, я был должен каждому факиру-пассажиру по проездному билету, да, меня бросила девушка двадцать пять лет назад, но это ничего не значило, потому что ее я не помнил ровно до того момента, пока в луже мне не попалась соломинка.
Я поморщился, дескать, какая тут соломинка? Но соломинка была фиолетово-розовая. Из нее кто-то пару часов назад пил коктейль. И сразу, будто это было пару часов назад, передо мной сверкнуло лицо Эли с соломинкой в фиолетово-розовых замерших губах, когда мы гуляли по Питеру и пили из луж: в октябре и сентябре сок, в марте пунш со льдом, в апреле аперитив. А летом мы просто лакали воду, потому что летом нас мучила страшная жажда, но мы продолжали жить вместе с собаками и на собаках-электричках, что так отчаянно высовывают свои потные языки в сторону лесных озер. Вам бы в их стальные шкуры!
Но никогда мы не пели в подворотнях и переходах, в один из которых я сейчас спустился и там увидел поющую бомжиху в кедах.
– Michelle ma belle… – распевала она, и плевать в три короба, не напомни мне ее голос стюардессу в давке ног. К тому же бомжиха странным образом улыбалась и пританцовывала. Она навеяла на меня жуткий страх, но, несмотря ни на что, я присел на корточки и залюбовался ее беспомощными движениями. Обычно, когда я так поступаю, меня рано или поздно начинают бить ногами по лицу.
Вы еще не видели бомжей, поющих “Битлз”, ничего, скоро вы их увидите в полной красе.
Мы познакомились с Элей в троллейбусе, набитом под завязку, словно веник в жилистых руках дворника, потому что это шарканье шин и этот шаркающий гул электродвигателя (чуть не сказал электролампочки) напомнили мне спокойную и размеренную жизнь дворника по утрам. Многие испытывают крайнее раздражение, находясь в переполненном транспорте, но мне столпотворение людей всегда по душе, потому что места, в которых людям становится так, что они начинают протирать друг о дружку куртки-дубленки на локтях и джинсы-валенки на коленках, такие места попросту священны. Туда тут же устремляются ангелы, и там можно преспокойно закрывать глаза и начинать делать зикр.
Помнится, только я подумал об ангелах, как две девчушки сбоку от меня заметили:
– Посмотри, вон попрошайка идет.
– С шарманкой на шее, как нищенка.
И действительно, к нам протиснулась кондуктор, и медь в перекинутой через шею сумочке забренчала, словно голодный желудок шарманки. И я еще подумал, что мы могли бы составить неплохой музыкальный дуэт. Может быть, она и была одета хуже, чем презрительно осмеявшие ее девушки, зато волосы и глаза, но особенно волосы, были настолько роскошны, что дали бы фору любой красотке в “форде”.
– Передаем за проезд, все передаем за проезд, – сказала она чуть громче, чем положено леди.
– Чтобы абсолютно все передали на проезд, такое невозможно. Этого не может быть в природе, как не может быть в природе чистого звука, – поделился я мыслью вслух.
– Может, – сказала она твердо.
– Тогда, может быть, нам помузицировать как-нибудь вместе, – заикнулся я и пожалел об этом.
– Сначала оплатите проезд.
– Я могу сыграть вам на гитаре, хотя у меня проездной.
– Покажите, что у вас там за проездной?
– А я вот не покажу, что у меня тут, – я сказал это, ища хоть какую-нибудь мелочь в кармане брюк. Впервые за всю жизнь мне захотелось быть кондуктором мужчиной, а не нищим пассажиром-факиром.
Раздался хохот. Это две девчонки смеялись над моей пошлой шуткой.
– Привет, – помахала она им ладонью.
– Привет, Эля, – кажется, они были знакомы.
– Как вы думаете, девочки, подстричь мне волосы? – она всем видом давала мне понять, чтобы я не спешил. А я и не спешил, я не спеша искал в кармане два рубля, на худой конец у меня был документ.
– А что, троллейбус – это монастырь?
– Это не монастырь, но что-то очень похожее…
– А зачем ты вообще пошла сюда работать? Тебя что, родители не кормят?
– Кормят, но здесь лучше…
И тут в троллейбусе все пошло кверху дном. Толпа рванулась от не открывшихся задних дверей к передним, сметая все на своем пути.
– Водитель, открой заднюю дверь, вот, посмотри, у меня удостоверение инвалида, я не могу идти (толкаться локтями), у меня же нет рук.
– Дверь заклинило, – виновато сказала кондуктор.
– За что вам только платить? – зашипела пожилая женщина, проходя мимо нее.
– Не ругайтесь, – сказал я.
И еще я хотел сказать, что это просто чудо какое-то, когда клинит двери, будь то в лифте или квартире, но особенно в троллейбусе, где каждый человек, стоящий на твоем пути, и есть дверь, которую заклинило.
– Вы, наверно, правы, – сказала мне женщина с роскошными волосами, – этого никогда не случится, чтобы все платили за свой проезд, хотя мне всегда казалось, что в местах, где собирается много народу, в таких местах живет гражданский бог.