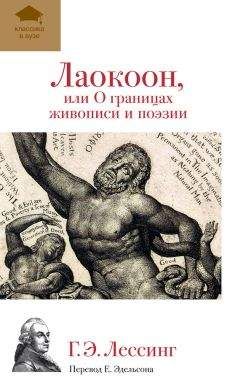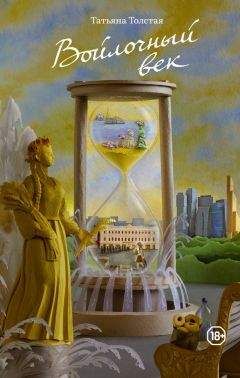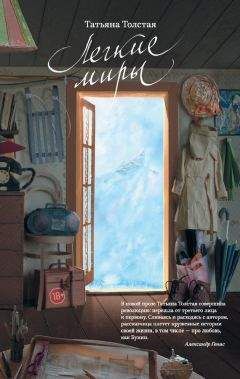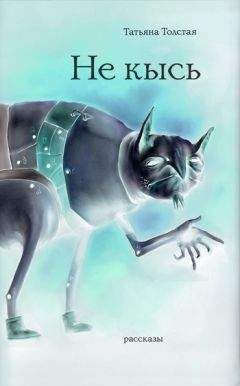Татьяна Толстая - На золотом крыльце сидели... (сборник)
– Доели – пошли! – скомандовала одна красавица другой, и, расправив прозрачные зонтики, как знаки иного, высшего существования, они выплыли в дождь и поднялись в небеса, в заоблачную, скрытую от глаз лазурь.
Петерс выбрал шершавую картонку из пластмассового стакана, вытер рот. Жизнь прошумела, обогнула его и унеслась, как огибает стремительный поток тяжелую, лежачую груду камней.
Уборщица прошлась самумом по столикам, махнула тряпкой Петерсу в лицо, ловким движением подхватила двадцать грязных тарелок и растворилась в сдобном воздухе.
– А я не виноват, – сказал кому-то Петерс. – Ни в чем решительно не виноват. Я тоже хочу участвовать. А меня не берут. Никто со мной играть не хочет. А за что? Но я напрягусь, я победю!
Он вышел прочь – под ледяные брызги, под морозную хлещущую воду. Победю. Побежду. Побежу. Стисну зубы и пойду напролом. И выучу, выучу этот проклятый язык. Там, на Васильевском острове, в самой сырой ленинградской сыри, ждет, плавает тюленем или ундиной Елизавета Францевна, легко бормочущая на сумрачном германском наречии. Он придет, и они залопочут вместе. О танненбаум! О, повторяю, танненбаум! Как там дальше-то?.. Приду – узнаю.
Что ж, прощай, Валентина и ее быстрые сестры, впереди лишь немецкая старуха – взялся за гуж… Петерс представил себе свой путь, петлистый след в мокром городе, и неудачу, бегущую по следу, принюхивающуюся к вафельным отпечаткам подошв, и старуху в конце пути, и, чтобы сбить с толку судьбу, кликнул такси и поплыл сквозь дождь, – пар шел от его ног, шофер был мрачен, и хотелось сразу же выйти. Така-така-така-така – стрекотали денежки.
– Здесь остановите.
Швейцар сторожил вход в злачное место – дверь в полуподвал, и за дверью глухо грохочет музыка, и лампы сияют из окон, как длинные трубки с ядовитым сиропом. Перед дверью клацали зубами в вихрях дождя юноши – все претенденты на Валентинину руку, – прощай, Валентина, – мест не было, но швейцар, обманувшись солидностью Петерса, пустил, и Петерс прошел, и с его боков прошмыгнули еще двое. Хорошее место. Петерс с достоинством снял шляпу и плащ, взглядом пообещал чаевые, шагнул в гремящий зал и протрубил в носовой платок о своем приходе. Хорошее место! Выбрал себе коктейль порозовее, пирожное-пагоду, выпил, куснул, еще выпил и расслабился. Хорошее, хорошее место. И под локтем его возникла, завязалась откуда-то из воздуха, из цветного сигаретного дыма девочка-мотылек; красное, зеленое платье – огни мигали – расцветало на ней орхидеей, и ресницы мигали как крылья, и на тоненьких лапках звенели браслеты, и вся она была предана Петерсу до последнего вздоха. Он махнул, чтобы дали еще розового спирта, боясь заговорить, спугнуть девочку, чудную пери, летучий цветок, и они посидели молча, удивляясь друг другу, как удивились бы, встретившись, козел и ангел.
Он опять махнул рукой – и дали даже еще и мяса.
– Кхэм, – сказал Петерс, моля небеса, чтобы они не сразу отозвали своего посланца. – Вот у меня в детстве был плюшевый заяц – фактически друг, и столько я ему всего наобещал! А сейчас иду на немецкий урок, кхэм.
– Я люблю плюшевых зайцев, они смешные-смешные, – холодно заметила пери.
Петерс подивился ангельской глупости – заяц не может быть смешным, он или друг, или ничтожество, мешочек с опилками.
– А еще мы играли в карты, и мне всегда доставался кот, – вспомнил Петерс.
– Кот тоже смешной-смешной, – сквозь зубы, как хорошо знакомый урок, повторила девочка, водя глазами по залу.
– Да нет! Ну почему? – возразил Петерс, горячась. – И дело же не в этом! Я не о том, я о жизни, а она все дразнит, показывает и отбирает, показывает и отбирает. И знаете, это как витрина – блестит, и заперто, и взять ничего нельзя. А, спрашивается, почему?
– Вы тоже смешной-смешной, – упорствовала, не слушая, равнодушная девочка. – У вас чего-то на пол упало.
Когда он наконец выбрался из-под стола, ангел уже вознесся, а с ним и Петерсов кошелек с деньгами. Понятно. Ну что ж. Иначе и быть не могло. Петерс сидел над объедками, неподвижный, как чемодан, трезвел, представляя себе, как он будет объясняться, просить, – презрение и усмешка гардеробщика, – вылавливать сырые рубли из болотистых карманов плаща, вытрясать мелочь, рыбкой скользнувшую за подкладку… Музыкальные машины топали, били в барабаны, возвещая о чьей-то наступившей страсти. Коктейль испарялся из ушей. Ку-ку! Вот так.
Что же ты такое, жизнь? Безмолвный театр китайских теней, цепь снов, лавка жулика? Или дар безответной любви – это и все, что мне предназначено? А счастье-то? Какое такое счастье? Неблагодарный, ты жив, ты плачешь, любишь, рвешься и падаешь, и тебе этого мало? Как?.. Мало?! Ах, так, да? А больше ничего и нет.
– …Жду! Жду! – кричала Елизавета Францевна, быстрая завитая бабулька, откидывая крюки и запоры, впуская ограбленного Петерса, темного, опасного, полного бедой по горло, по верхнюю тугую пуговицу.
– Вот сюда! Сразу и начнем! Присаживайтесь на диванчик. Сначала лото, потом чайку. Так? Быстренько берите карту. У кого коза? У меня коза. У кого цесарка?
Сейчас убью ее, – решил Петерс. Елизавета Францевна, отведите глаза, сейчас буду вас убивать. Вас, и покойную бабушку, и девочку с бородавками, и Валентину, и фальшивого ангела, и сколько их там еще, – всех, кто обещал и обманул, заманил и бросил; убью от имени всех тучных и одышливых, косноязычных и бестолковых, от имени всех, запертых в темном чулане, всех, не взятых на праздник, приготовьтесь, Елизавета Францевна, сейчас буду душить вас вон той вышитой подушкой. И никто не узнает.
– Францевна-а! – бухнули кулаком в дверь. – Давай три рубля, коридор за тебя вымою!
Порыв прошел. Петерс отложил подушку. Захотелось спать. Старушка шуршала деньгами, Петерс опустил глаза в карту «Домашние животные».
– Вы что задумались? У кого кот?
– У меня кот, – сказал Петерс. – У кого же еще? – И вышел боком, стиснув картонного кота в кулаке. К черту жизнь. Спать, спать, заснуть и не просыпаться.
Приходила весна, и уходила весна, и снова приходила, и расстилала голубые цветы по лугам, и махала рукой, и звала сквозь сон: «Петерс! Петерс!» – но он крепко спал и ничего не слышал.
Шуршало лето, вольно шаталось по садам – садилось на скамейки, болтало босыми ногами в пыли, вызывало Петерса на нагретые улицы, на теплые мостовые; шептало, сверкало в плеске лип, в трепете тополей; звало, не дозвалось и ушло, волоча подол, в светлую сторону горизонта.
Жизнь вставала на цыпочки, удивленно заглядывала в окно: почему Петерс спит, почему не выходит играть с ней в ее жестокие игры?
Но Петерс спал и спал, и жил сквозь сон; аккуратно вытирая рот, ел овощное и пил молочное; брил тусклое лицо – вокруг сомкнутого рта и под спящими глазами, – и как-то, нечаянно, мимоходом, женился на холодной твердой женщине с большими ногами, с глухим именем. Женщина строго глядела на людей, зная, что люди – мошенники, что верить никому нельзя; из кошелки ее пахло черствым хлебом.
Она всюду водила за собой Петерса, крепко стиснув его руку, как некогда бабушка, по воскресеньям они отправлялись в зоологический музей, в гулкие, вежливые залы – смотреть остывших шерстяных мышей, белые кости кита; в будни они входили в магазины, покупали мертвую желтую вермишель, старческое коричневое мыло и глядели, как льется через узкое жерло воронки постное тяжелое масло, густое, как тоска, бесконечное и вязкое, как пески аравийских пустынь.
– Скажите, – строго спрашивала женщина, – цыплята что – охлажденные? Вон того дайте. – И «вон тот» ложился в затхлую сумку, и спящий Петерс нес домой холодного куриного юношу, не познавшего ни любви, ни воли, – ни зеленой муравы, ни веселого круглого глаза подруги. И дома, под внимательным взглядом твердой женщины, Петерс должен был сам ножом и топором вспороть грудь охлажденного и вырвать ускользающее бурое сердце, алые розы легких и голубой дыхательный стебель, чтобы стерлась в веках память о том, кто родился и надеялся, шевелил молодыми крыльями и мечтал о зеленом королевском хвосте, о жемчужном зерне, о разливе золотой зари над просыпающимся миром.
А лета и зимы скользили и таяли, растворялись и гасли, урожаи радуг повисали над далекими домами, молодые жадные метели набегали из северных лесов, двигали время вперед, и настал день, когда женщина с большими ногами покинула Петерса, тихо прикрыла дверь и ушла, чтобы покупать мыло и помешивать в кастрюлях другому. Тогда Петерс осторожно приоткрыл глаза и проснулся.
Тикали часы, в стеклянном кувшине плавал компот, и тапочки остыли за ночь. Петерс ощупал себя, пересчитал пальцы и волосы. Мелькнуло и улетело сожаление. Тело его еще помнило глушь пролетевших лет, тягучий сон календаря, но в глубине душевной мякоти уже оживало, приподнималось с лежанки, встряхивалось и улыбалось что-то давно забытое, молодое что-то и доверчивое.
Старый Петерс толкнул оконную раму – зазвенело синее стекло, вспыхнули тысячи желтых птиц, и голая золотая весна закричала, смеясь: догоняй, догоняй! Новые дети с ведерками возились в лужах. И ничего не желая, ни о чем не жалея, Петерс благодарно улыбнулся жизни – бегущей мимо, равнодушной, неблагодарной, обманной, насмешливой, бессмысленной, чужой – прекрасной, прекрасной, прекрасной.