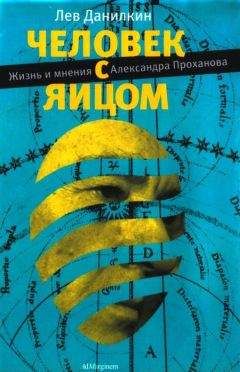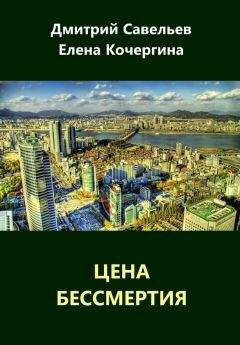Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
– Хотите меня с зыбкой почвы спихнуть в трясину?
– Мы вас спасём, если сами не справитесь, мы вас за волосы вытащим, – пообещала Оксана.
– Всякая смерть, – начал Германтов, – пробивает невидимую брешь в ткани бытия, брешь – в ничто, ибо и сколь угодно красочно нафантазированное Царство Небесное, как бы брешь заполняющее теми ли, этими образами, изъятыми из реальности, суть всё то же ничто, хотя подобные фантазии лишь уводят от трансцендентной сути.
– Что же не уводит?
– Честная иносказательная попытка изобразить брешь как брешь, то есть – как абсолютную пустоту.
Вера перестала жевать, а рука Оксаны с вилкой, на которую был наколот ломтик цукини, зависла в воздухе.
– Но, – у Веры золотом блеснули глаза, – можно ли, вспомнив то, что вы только что говорили, изобразить пустоту саму по себе, вне категорий наполненности?
– Это хитрая художественная задача, – Германтов отпил вина, – её можно решить, присматриваясь к ткани бытия на границах с брешью… Фокус в том, что, пробивая брешь, смерть деформирует и саму бытийную ткань.
– Опять деформации как средство изображения идеи?
– Опять: деформации видимого используются для изображения невидимого, в том числе – и посмертной пустоты, это ведь ключевой художественный приём.
– Когда и как дошли вы до этой простенькой мысли?
– Давно, когда удалось всеми правдами и неправдами посмотреть ранние фильмы Антониони. Там на удивление зримо передано зияние, замещавшее ушедшего – в антониониевских терминах исчезнувшего – человека. Зияние – словно колеблемое, словно передвижное, знобяще-ютящееся то в гостиной, между накрытым столом и камином, то между крыльцом виллы и садом. Хотите верьте, хотите нет, но я видел на киноэкране конфигурацию смертельной бреши, чуял, как тянуло из неё потусторонним холодом.
– Б-р-р-р, – передёрнулась Оксана, сняла жилетку и повесила её на спинку кресла.
– Получается, что…
– Что таким образом на целлулоиде запечатлевалась сама смерть – субстанция неведомого нам измерения.
– Б-р-р-р, – на сей раз передёрнулась Вера и тоже подцепила ломтик цукини вилкой. – Мне с вашей подачи вспомнился опять Алексеев: это ли не радость, что скорбь уже так глубока… А вы, ЮМ, помните?
– Помню, это «На темы Ницше».
– Да:
Это ли не радость
что скорбь уже так глубока? –
если заглянуть в неё
то дна не увидишь
как ни старайся
горько плачут в лесу осины
после дождя
и страшен облик горизонта
полузадушенного подушками облаков
но я радуюсь от души, –
у Веры вспыхнули диким огнём глаза, а щёки мертвенно побледнели:
это ли не радость
что скорбь так несказанно глубока? –
если заглянуть в неё
дух захватывает.
И уже доедали телячью печёнку с маринованными цукини и базиликом, допивали розовое вино, когда Оксана с обидой в голосе сказала:
– Пусть цифры в зрачках Джоконды, как на биржевом табло, выпрыгивают, если вообще выпрыгивают, пусть даже цифры – фикция и это лишь чьи-то домыслы, но вы ведь знаете, Юрий Михайлович, что Микеланджело в Сикстинской капелле изобразил на плафонной фреске человеческий мозг?
– Знаю, вернее, готов в это поверить, так как верю глазам своим.
– Он ведь не мог видеть человеческий мозг в натуре, а узнаваемо-точно написал, хотя образно…
– Не исключено, что мог видеть: Микеланджело, знаток анатомии, не раз присутствовал при вскрытии трупов. Но скорей всего вы, Оксаночка, правы, это интуитивное прозрение.
Германтов мысленно задрал голову.
– Многофигурное, густо закомпонованное изображение действительно похоже на мозг – по внешним контурам угадываются формы двух полушарий. Но если это и мозг, то выписан он будто бы изнутри – мы не видим привычную сферу, испещрённую извилинами, а видим багрово-коричневую изнанку сферической коры мозга, мы проникаем под её оболочку, где, оказывается, обитает седобородый Бог-Творец, находящийся во вдохновенном полёте, где теснится, слипаясь телами, летящая вместе с ним, вся его устремлённая взглядами к сотворённому чудесно Адаму свита… Этот мозг – как двустворная раковина как тесное и подвижное родовое гнездо, в котором так трудно всем обитателям его уместиться… Вот одна нога высунулась за контуры оболочки, другая вытянулась вдоль направления полёта… А как струятся и реют лёгкие ткани на небесном ветру…
– Я всегда, когда смотрю, задаюсь вопросом и не нахожу ответа: в небе сколько угодно места, качайся себе вольно на облаках, а им так тесно… Почему?
– Скорее всего, по композиционным соображениям.
И тут плавная речь Германтова споткнулась: его дёрнула судорога, а мысль ослепила дерзостной неожиданностью: это, это, осенило, и есть «ядро темноты»! Кисть взломала оболочку, проникла… Сферическая скорлупа, раковина, гнездо – лишь индивидуальные поиски сжатого образа и композиции вкупе с гениальными ухищрениями изобразительности, а это – да вот же оно, непостижимое, но видимое, вот – «ядро темноты», такое, каким его увидело художественное воображение, ядро, впустившее в себя свет, ставшее зримым со всеми его тайными потрохами. Микеланджело вынудил демаскироваться самого ветхозаветного Бога.
– Мы впервые увидели Бога?
– Ну да, язычники-греки знали своих богов в лицо: вот Зевс, вот Аполлон, вот Афродита, а мы…
В глазах поплыли круги.
– ЮМ, вам плохо? – Вера быстрым ловким движением налила в бокал минеральную воду. – Выпейте!
– Мне уже хорошо, спасибо, – глотнув воды, отвечал, приходя в себя, Германтов, – а сейчас будет ещё лучше, – он, храбрясь, воду запил вином и лихо подцепил вилкой закуску – кружочек маринованного цукини.
– Что с вами было? – спросила Оксана.
– Пустяк, голова слегка закружилась, – отговаривался Германтов, – наверное, стало слишком душно.
– Тепловой удар? – обеспокоилась Оксана. Развязала на шее платок-галстук, принялась обмахивать. – А у меня, Юрий Михайлович, так зимой бывает, перед наводнением: только сирена противно взвоет, –у-у-у-у, оповещая о приходе большой воды, как голова кружится и тошнит.
– Ещё выпейте, ещё.
– Спасибо. Скоро будет попрохладнее, – он с наигранной бодростью встал и, подойдя, пошире открыл балконную дверь. – Джудекку заливала растворённая в воздухе предзакатная желтизна.
– Самое время подняться на крышу, на террасу – там намечено продолжение трапезы, десерт.
– Не хлопотно ли таскать вверх-вниз посуду?
– Ничего не будем таскать, там всё, что нам понадобится, есть…
– Там не только посуда, там и кухня ещё одна есть, – добавила Оксана. – На каждом этаже своя кухня.
Строго сдвинула брови:
– Ну-ка, улыбнитесь, Юрий Михайлович. У-у-у, какие зубы чернильные! Пометили вас соусом кальмар с каракатицей.
– Отправляйтесь в ванную, пополощите рот и верните нам свою белозубую улыбку, – распорядилась Вера. – Флакон на стеклянной полочке.
Забегая вперёд, стоит сказать, что не только уборные с умывальниками, но и даже ванные с биде и большими-пребольшими джакузи были как на уровне жилых этажей, так и на уровне крыши.
Винтовая лестница вывела на замощённую дымчато-бледным мрамором крышу, под наклонный парусиновый навес, который поддерживался по краям, с боков, специальными телескопическими распорками с никелевыми втулками.
Ещё одна разновидность мрамора – дымчато-бледного, с зелёными искрами: дом-каталог?
Правда, была и не мраморная – из ноздреватой белой штукатурки – стена с массивной, с выпуклыми стёклами в коричневых переплётах, дверью.
Солнце ушло за дом, под навесом плавал рассеянный, ещё не успевший похолодеть свет. Лагуна поблескивала, как плоская зашлифованная голубоватая льдина, влево-вправо вытягивалась, выгнувшись слегка, набережная.
Видели ли вы когда-нибудь Словенскую набережную сверху? Германтов и сам-то впервые увидел едва ли не с птичьего полёта этот выгиб каменной сабли с уткнувшимися носами в причальные зазубрины её катерами, лодками; к причалам медленно приближались мягкие синеватые тени, отброшенные фасадами; по куполам делла-Салуте, потемневшим с левой стороны, справа словно бы стекал по контурам мёд – дивный час вечера после знойного дня, когда солнце не упало ещё во тьму, а лишь готовилось спрятаться за коньками крыш. И скользила по бледной шелковистой воде прозрачная тень одинокого облака, и растаял горизонт, так как вода и небо сливались – еле желтела далёкая полоска Лидо, подкрашенного лучами заходящего где-то за Дорсодуро солнца.
Германтов стоял у хромированных тонких перил; не верилось даже, что многопалубный монстр-лайнер, проплывавший здесь днём, смог протиснуться меж набережной и островами, не снёс исторических декораций.