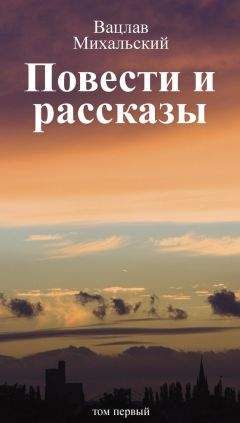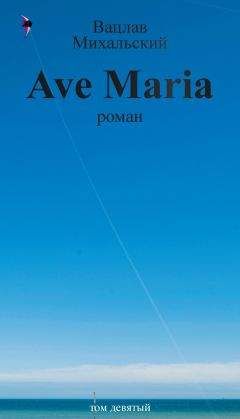Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том третий. Тайные милости
Сплошь и рядом то, что когда-то было или считалось дурным, оборачивается хорошим, то, что было обузой, становится со временем достоинством или поддержкой. Взять хотя бы ту же историю с ее волосами – теперь они для нее просто спасение! То, что многие годы было в тягость, обернулось надежной радостью, очень важной для одинокого человека. Для одинокого важней не нечаянные или даренные к празднику, ритуальные радости, а каждодневные, надежные радости собственной выработки.
В эти ночные часы невольного бодрствования Анна Ахмедовна с особенным холодком в душе чувствовала свою ненужность, и сейчас, думая о проскакавших под окнами лошадях, еще раз вспомнила про бедных ишаков, которые однажды стали невыгодны своим хозяевам, и те, против своей воли, выгнали их, выбросили из жизни.
Ее никто не выгонит.
Слава богу, у нее есть самое главное – есть крыша над головой, есть государственная пенсия, способная обеспечить вполне сносную жизнь, есть остатки былого здоровья.
Но кому она нужна?
Внучки воспитываются у няньки. Сын весь в делах, как рыба в чешуе. С невесткой она так и не нашла общего языка.
Может быть, утешиться тем, что каждый человек нужен прежде всего самому себе?
Но это слабое утешение. В сущности, вся наша житейская суета, все дела и занятия – загораживание от неминуемой смерти, постоянное, ежеминутное строительство баррикад на ее пути. Особенно хорошо тем, кому дана страсть к рисованию картин, изобретательству велосипедов, писанию романов или выпиливанию лобзиком – так называемым одержимым. Они одерживают смерть веселее других. А еще лучше деловым, тем, которые, по их заблуждению, делают свою жизнь сами. Будучи практиками во всем, они почему-то вообще не принимают смерть в расчет – весь идеализм, отпущенный им для траты в течение жизни, они почему-то отпихивают со своей дороги, как снег бульдозером, к самому ее тупику, и считают, что загородились наверняка. Анна Ахмедовна не принадлежала ни к одержимым, ни к деловым, а была человеком обыкновенным, во всяком случае так ощущала себя в этом мире, так думала о себе.
Как и все пожилые люди, она частенько не помнила, что ела вчера за завтраком, но зато ясно и ярко помнила кое-что бывшее с нею тридцать, сорок, пятьдесят лет тому назад. Помнила не просто эпизоды или отдельные случаи, а вкус, цвет, запах прожитой жизни.
Попив теплого, жидкого чаю, она принесла из большой комнаты свой вечный «Беломорканал», закурила и порадовалась, что в свое время не бросила курение, к которому пристрастилась в молодости. Вернее, бросала, но ненадолго – на время беременности и кормления ребенка, а потом закурила снова. Курить она научилась в госпитале: сворачивала цигарки раненым, прикуривала, да так и втянулась. Хорошо, что она пристрастилась тогда к курению; при папироске все-таки не так одиноко и всегда как бы при деле. Так что и папироска, бывшая когда-то дурной привычкой, теперь, на старости лет, обернулась чем-то вроде соломинки для утопающего. Анна Ахмедовна усмехнулась своим мыслям, ткнула окурок в отсвечивающую в полутьме хрустальную пепельницу.
Казалось, каждая жилочка, каждый капилляр, каждая клеточка ее тела хотя и обветшали, но зато так приноровились друг к другу, что благодаря своему новому согласию работали без надрыва и натуги, наверное, самым удачным образом. Если раньше она едва высыпалась за семь-восемь часов, то теперь ей вполне хватало трех-четырех. С годами все дальше и дальше в глубину виделись в мельчайших подробностях прожитые дни, вплоть до той минуты, когда она впервые запомнила жизнь, осознала, что существует на свете.
Первое воспоминание ее жизни была не картинка, не эпизод, а запах. Запахи…
Она проснулась, а вернее, вышла из небытия, от обоняния смешанных запахов жареного лука, вареной картошки, подсолнечного масла, теста и острого аромата черного молотого перца, которым посыпали фарш. Все эти составляющие она определит словами потом. А пока мать варила вареники с толченой картошкой и жареным луком – именно этот набор таких вкусных, таких домашних запахов стал для нее навсегда паролем семейного благоденствия и самых надежных радостей, прочно огражденных от зол и превратностей жизни попечением родителей. Наверное, ей было тогда годика два или три… Она проснулась утром в своей кроватке и запомнила навсегда запах вареников с толченой картошкой и жареным луком как бесспорный факт своего существования на земле. В тот момент она впервые как бы вырвалась из бессознательного хаоса и всеобщности мира, выделилась в нечто цельное, самостоятельное, обособленное от всего прочего, что ее окружало. Она осознала на миг свое я и как бы подумала: вот это – Я! А все прочее – и голубые прутья кроватки, и запах вареников, и солнце в окошке, и мама на кухне, все прочее это – Они. Другие, другой, другое…
Сходное чувство возникло у нее в молодости, после операции, когда отошел наркоз, когда она вяло всплыла из сонной одури на поверхность бытия и вот так же вдруг ощутила не только факт своего существования, но и своей отдельности от всего прочего.
Потом, через много лет, все повторилось совсем как в детстве. Однажды утром, еще не открывая глаз, она учуяла запахи вареного теста, толченой картошки, жареного лука, черного перца, подсолнечного масла… Она понимала сквозь сон, что находится у себя дома, а не где-то в гостях, и ее словно окатило волной радостного, колкого до мурашек воспоминания, на какие-то доли минуты показалось: на кухне ее молодая мама варит вареники. Ее мама! И она ощутила себя вдруг все той же маленькой девочкой, что когда-то учуяла эти запахи впервые в жизни.
На кухне хозяйничала молодая невестка. Встала с первым солнцем и, не подозревая, что значат вареники с картошкой в жизни ее свекрови, взяла и угодила в самую точку.
К сожалению, о том, что угодила, ей не было сказано. Анна Ахмедовна постеснялась сказать о своем сокровенном малознакомой невестке Наде, побоялась, что та не поймет ее. Наверное, именно с этого первого, хотя и оставшегося вроде бы втайне, недоверия началось отчуждение между ними. Ведь даже и пустая, глупая женщина порой способна угадать такие тонкие и такие малозаметные движения души другой женщины, какие большинство многоумных мужчин не способно разглядеть и под микроскопом. А Надя была далеко не дура, да к тому же все ее юные силы были напряжены как в обдуманном, так и в инстинктивном желании подольститься к матери своего мужа, угодить ей почти любой ценой. По смущенной полуулыбке, блеснувшей в темных, строгих глазах свекрови, по тому, как поникла ее горделивая осанка, сменившись на минуту робкими, угловатыми движениями подростка, как затрепетали ее ноздри, вдыхая кухонный аромат, невестка Надя не то чтобы ясно увидела или поняла, а скорее угадала присутствие в доме какой-то нечаянной радости. Она даже осмелилась спросить: «Во сне что-нибудь хорошее почудилось?» – «Да так, – подавив желание поделиться, отводя в сторону помолодевшие глаза, чопорно приосаниваясь, буркнула свекровь. – Так…» И Надя вспыхнула от обиды, поняв, что ей только не говорят в лицо: не твоего ума дело! Вспыхнула жарким молодым румянцем и, скрывая смятение, глубоко наклонилась над мусорным ведром, заодно смахнув со стола приготовленный ею фальшивый вареник, начиненный солью. Когда была жива ее, Надина, мама и они затевали дома вареники, то всегда лепили один фальшивый – узнать, кто сегодня счастливец, потешиться над ним незлобиво и весело. Смахивая со стола потешный вареник, Надя подумала горько, что она здесь не у себя дома, что здесь, может быть, и не поймут ее шутку. Конечно же, Анна Ахмедовна так никогда и не узнала об этом фальшивом варенике, а если бы узнала, то пожалела бы о своей скрытности, о том своем давнем недоверии невестке Наде.
Вспомнив сейчас о Надиных варениках, Анна Ахмедовна воскресила в своей душе и ту черную искорку, что промелькнула тогда между ними, ту червоточинку, что, зародившись в одну дурную минуту, дала потом такие обильные, такие горькие плоды.
Да, зря не поделилась она с невесткой. Могли бы тогда порадоваться вместе, посмеяться, и, может быть, что-то открылось бы в душе у каждой, распахнулись бы навстречу друг другу какие-то крохотные окошки и не остались бы навсегда их души друг для друга замурованными. Глядишь, порадовались бы тогда вместе, пооткровенничали, подурачились, и перешли бы на ты, и зажили по-родственному, как мать с дочкой. Чего им было делить? Зачем им было тащить Георгия в разные стороны?
Анна Ахмедовна усмехнулась своим мыслям: насчет дочек-матерей она, конечно, хватила! Но все же могли бы их отношения сложиться как-то веселей, человечней, проще, без того подчеркнуто-вежливого угрюмства («Вы не против, если я погашу свет в коридорчике?», «Я считаю, что процеживать не нужно, но я не настаиваю – делайте, как хотите», «Вы не могли бы пойти завтра со мною на базар?»), к которому подтолкнул прежде всего ее, Анны Ахмедовны, характер.