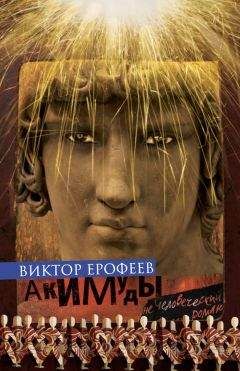Сергей Лебедев - Люди августа
В одной из каморок внутри барака – наверное, здесь жил начальник лесоучастка – лежали на столе газеты; ржавая вода с потолка испятнала их уродливыми искаженными кругами, словно так проявилась суть событий, описанных в статьях; я взял одну газету, на первой полосе бросился в глаза снимок Белого дома в октябре 1993-го: черно-белый, наполовину закопченный, без флага.
И мне показалось вдруг, что именно эта газета принесла в поселок вирус бунта; вот как отозвались в стране дни октября, танковые выстрелы над Москвой-рекой!
Марс приказал троице бойцов очистить место для ночлега; мне молчаливо было позволено осмотреться – похоже, Марс единственный верил, что я на самом деле что-то ощущаю, и отправил меня принюхаться: вдруг что-то пойму, уловлю.
В углу барака валялась каска, обычная оранжевая каска, какую носили и строители, и рабочие на лесоповале. В другой раз я бы просто прошел мимо, но тут память снова бросила меня в 1993 год, в осень, в сентябрь, ранний сентябрь, когда еще не верилось, что скоро прольется кровь, но кровью уже пахло.
Белый дом, шахтеры на Горбатом мосту, то ли из Кузбасса, то ли из Воркуты; они заняли старинный мост, где выходил на поверхность старый камень булыжных мостовых, сидели там, развернув плакаты «Даешь зарплату!», – и стучали, стучали касками о брусчатку, требуя, чтобы к ним вышел представитель правительства.
Я тогда уже бывал в шахтерских местах, знал, что шахтеры, понимающие, как на самом деле хрупки скальные своды, как легко разбудить обвал, никогда без цели не прикасаются к камню, обходятся с ним очень осторожно. Даже голос не повышают без нужды, говорят негромко, и движения их кажутся нестройными, расхлябанными, но в этом есть мудрость опыта: разнобой голосов, шагов не дает возникнуть резонансу.
И вот поднявшиеся на поверхность шахтеры слитно, громко стучали касками по брусчатке Горбатого моста; знающие, как можно тихими, казалось бы, безвредными ударами вызвать обрушение, просадку пластов, – они колотили по булыжникам, помнящим еще и ботинки рабочих дружин, солдатские сапоги, подковы казачьих лошадей, словно пытались вызвать дух давних событий.
…А через несколько дней на город спустились сумерки цвета милицейского бушлата, цвета седой овчарочьей шерсти, воздух стал прозрачен, трепетен. Мои родители и их друзья собрались на Пятницкой, в большой коммунальной квартире, где этажом ниже было отделение милиции – надеялись, что так безопаснее. А милиционеры постепенно стали перебираться в квартиру, к домашнему свету и теплу – думали, что так безопаснее для них.
Пустые улицы ждали звука, фонари качались от набиравшего силу, но остававшегося бесшумным западного ветра, и сладко, безалаберно-сладко, одуряюще пахло шоколадом с кондитерской фабрики «Красный октябрь».
«„Красный октябрь“ так пахнет», – говорили старшие и сами же осекались, будто слова «Красный октябрь» могли направить события по руслу революции 1917 года.
…Пустые, пустые улицы, серый асфальт, серое небо, серые бушлаты, желто-синие милицейские машины, болотно-зеленые шлемы и болотно-зеленые щиты с дырками для глаз.
Лампасные казаки и коммунисты с красными флагами, националисты со славянскими свастиками, теоретики всеобщего счастья с гуашевыми плакатами, брезентовые палатки, термосы, костры, носилки из переносных заграждений – все сливается в пенящийся маскарад, в страшную манифестацию ряженых, живущую центробежной энергией разъединения: люди хотят с кровью, с мясом оторвать от себя других, а потом уничтожить этих других, ставших чужими.
…В коммунальной квартире снимала комнату англичанка-славистка. Она всегда вела себя аристократически-естественно, рядом с ней каждый рисковал быть увиденным в своей скрываемой зажатости, будто бы речь тела изобиловала запретами, будто бы тело вообще воспринималось как источник опасности – оно может предать, выдать тайну чувства или намерения, и оттого оно опутано мысленными поводками, и человек пытается сам собой управлять как марионеткой, конфузится и от конфуза еще туже натягивает поводки.
Но в это время как раз англичанка сделалась неестественной. В русских людях высвободилось что-то, что хранилось, как НЗ, именно на такой случай: готовность бежать или застыть, пригнуться, выглянуть из-за угла, броситься наземь, присесть на корточки, карабкаться, прятаться, пристально следить; разбежаться врозь или, наоборот, собраться вместе; быть упругим атомом общих событий; солдатская свычка с неуютом, с неопределенностью будущего, умение отыскивать в этой неопределенности лазейки, ведущие на пять минут вперед. Англичанка же растерялась; духом она была спокойна, а вот тело не знало, как ему вести себя; в конце концов она села в угол дивана, рядом заснул молодой милиционер, его голова склонилась ей на плечо, и она нашла свое дело среди безумств того дня – оберегать сон сержанта.
…Я очнулся от воспоминаний, осознал, что прокручиваю их в сознании третий или четвертый раз.
Каска и газета – их словно нарочно бросили тут, что-то мне подсказывая, наводя на фокус восприятие; смотри, как невольно сцепляются события, какое эхо рождают выстрелы, даже если кажется, что не стрелять невозможно.
На ночь мы устроились в комнате, обклеенной старыми газетами, разожгли в углу костерок на листе железа, перекусили. Муса с Джалилем тут же улеглись спать, накрылись бушлатами, найденными в поселке, сжались, привалились друг к другу. Я сам был мастак спать без постели, но такого мастерства не видел: они словно ухитрились втиснуться друг в друга, как призраки, превратиться в одного человека, чтобы не терять ночью ни капли тепла. Данила остался на посту.
Марс улегся тоже, поближе к угасающему костерку, а мне не спалось; сполохи вспыхивающих и угасающих язычков огня пробегали по стенам. Иногда трескалась головешка, огонь вспыхивал ярко, из темноты выступали давние заголовки, фотографии, тени минувших событий; на меня опустилась томительная дрема, перед глазами снова возник черный от пожара, разбитый танковыми снарядами Белый дом в Москве, потом – его архитектурный двойник, Белый дом в Грозном, разрушенный еще сильнее, тоже покрытый копотью; казалось, это одно и то же здание, расстрелянный дом отражается в зеркале, смотрит на себя же самого.
…Утром я проснулся позже всех, и проснулся с мыслью, что надо поворачивать обратно: ночные видения словно отговаривали от продолжения пути. Но понимал, что Марс не остановится, не свернет уже; он навелся на цель, как ракета.
Солнце уже поднялось, ветра не было, и разоренный поселок выглядел не так жутко, как вечером. Муса сливал Джалилю воду из ржавого ведра, тот обливался по пояс, фыркал, Данила ждал своей очереди; Марс пил чай.
Но вдруг Данила повернул голову в сторону леса, за ним Марс; Джалиль одним движением натянул штормовку на мокрое тело, а Муса был уже около рюкзаков, с автоматом в руках. И все они четверо стали неприметными, будто сжались; какая-то спайка возникла между ними и предметами, столб, старая бочка, груда кирпича уже укрывали их, прятали от чужого взгляда.
От леса к поселку бежал человек. Точнее, мы видели, что бежит человек, но сам бег принадлежал не человеку. Казалось, в несущемся сломя голову мужчине сидит заяц, и этот заяц все время порывается бросить тело на четыре лапы, чтобы вдвое мощнее отталкиваться, вдвое быстрее мчаться. В бегущем не было слаженной красоты спринтера, руки и ноги работали вразнобой, голова моталась, но при этом беглец был так наполнен и приподнят страхом, что страх нес его бережно и ловко поверх поваленных деревьев в траве, мимо кочек и ям.
Из подлеска выметнулись темные тени – одна, другая; полтора десятка. Это были псы, несущиеся загонным полукольцом; они, видно, долго бежали по следу, тянули носами нить запаха, экономно тратили силы – а теперь, завидев беглеца, рванули в полную мощь. Не прыть была в них, не перистый нежный полет борзых, а мощь, тяжелая, настигающая, давящая; крупные, цвета сухой соломы, собаки, похоже, были с примесью волчьей крови; свора – слаженная, сбитая.
Беглец не видел и не слышал их, псы неслись молча, настолько быстро, что тела их теряли очертания, становились действительно тенями. Они то пропадали, то возникали среди травы, и казалось, что они не бегут, а движутся рывками, телесными вспышками сквозь пространство. Беглец устремился к крайнему бараку, наверно, думая спрятаться в нем, но псы наддали, левое «крыло» своры прибавило, вырываясь вперед, чтобы выскочить ему напересечку. Теперь их стало видно лучше: одичалые псы, смешавшие кровь с волками; самое страшное, что можно было встретить в здешних лесах, – такая стая не боится людей, ее не остановишь криком, выстрелом вверх, огнем.