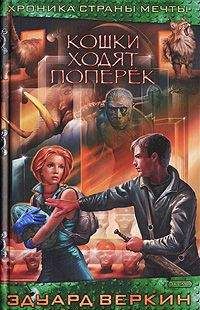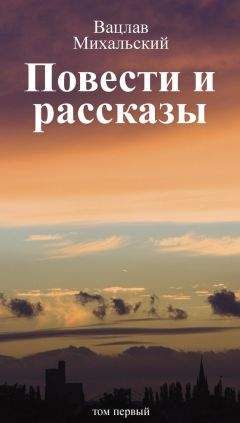Вацлав Михальский - Собрание сочинений в десяти томах. Том десятый. Адам – первый человек. Первая книга рассказов. Рассказы. Статьи
Семь классов я окончил у деда в Кабарде, куда, кажется, он, я и бабушки переехали из Дагестана после моего четвертого класса. Почему переехали? По причине весьма печальной и для нашей семьи, и для аула под синей горой со всеми его жителями, и для нашей конторы, над крыльцом которой развевался дымно-розовый флаг с серпом и молотом, и для коров в коровнике, и для жеребенка Ви, который стал могучим жеребцом, и для моего друга волкодава Джи, который совсем постарел и целыми днями искал на обочинах целебную траву, которая должна была омолодить его чудным образом.
Если перевернуть известную поговорку, то получится как раз наш случай: не было бы несчастья, да счастье помогло. А счастье состояло в том, что на нашей равнине геологи нашли нефть, притом, как говорили, очень высокого качества – хоть сразу заправляй в двигатели без всякой очистки. Насколько последнее было правдиво, я не знаю и сейчас, а тогда поставили вышку, пробурили скважину, ударил фонтан нефти и понеслось, поехало.
Наш колхоз со всеми его работниками, хакимами, живностью, инвентарем и конторой, над крыльцом которой так гордо реял выцветший на солнце, дожде и ветре флаг с серпом и молотом, фактически, как солдат по тревоге, перебросили на новое место дислокации, километров за сто с лишним, куда-то под Хасавюрт. Хорошо, что дело было летом и до холодов люди нарыли там землянок и хоть как-то смогли обустроиться на новом месте. Мой дед Адам, как вольнонаемный, отказался переезжать, хотя несколько раз ездил на новое место, помогал налаживать технику, и прежде всего автомобили, которых в те, послевоенные, времена у нас снова было много.
Метров за триста-четыреста от нашего дома с разных сторон поставили еще четыре буровые вышки, установили насосы-качалки, которые круглосуточно кланялись матушке-земле за откачиваемое из нее черное золото.
Тогда я впервые в жизни увидел, как, оказывается, легко и просто можно уничтожить то, что нажито десятилетиями неустанного труда и любви. Я имею в виду, прежде всего, те десятки гектаров виноградников редчайших сортов, которыми славилась наша долина, белый аул под синей горой, который существовал, наверное, не одно столетие. Наверное, белый аул под горой и не видел проходивших здесь в походе на Индию воинов Александра Македонского, но видел много чего другого, может быть, не менее важного, но канувшего в Лету без следа.
«А если что и остается
Через звуки миры и трубы…» —
не зря так написал наш великий поэт Гавриил Романович Державин, он знал толк в ходе истории и в ее своенравных причудах.
Ах, как хотелось Гавриилу Державину поймать Емельяна Пугачева! А если бы вице-губернатор Казани таки поймал то ли злодея-простолюдина, то ли монсеньора Пугачева, как упоминала его в письмах к Вольтеру Екатерина II? Да, если бы поймал, то тогда, наверное, не было бы «Капитанской дочки» Александра Сергеевича Пушкина, или, во всяком случае, она бы точно была другой.
Но не поймал Пугачева Державин, и теперь у нас есть навечно и «Капитанская дочка», и с Пушкиным случилось все так, как случилось: «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил».
А что касается памяти людской, то в ней действительно остается что-то только «чрез звуки лиры» – то есть через литературу и искусство… И «чрез звуки трубы» – речь идет о боевой трубе, призывающей к битве. И чем больше крови пролил тот или иной полководец или тиран, тем ярче имя его в народной памяти, а за ней и в писаной истории, которая всегда – мнение победителей. Побежденные не пишут своей истории просто потому, что для этого у них нет возможностей.
Что знаем мы о тех, кто подарил миру классические семь чудес света?
Кое-что знаем, но о ком?
Знаем о скульпторе Фидии, изваявшем статую Зевса в Олимпии, которая, увы, не сохранилась.
Знаем об архитекторе Пифеи – авторе Мавзолея в Галикарнасе.
Знаем о скульпторе Харесе, установившем Колосс Родосский.
И знаем о злодее Герострате, сжегшем из желания прославиться четвертое чудо света – Храм Артемиды в Эфесе.
Да, мы знаем из минувших веков только о людях литературы, искусства, или науки – то есть о людях духа. И в еще больших и, как правило, красочных подробностях мы знаем о злодеях, погубивших тысячи, а то и миллионы людей. А добрые, трудолюбивые, законопослушные жители превращаются в прах земной, не оставляя о себе в веках ни памяти, ни печали; хорошо, если у них есть потомство, тогда остаются хоть какие-то зацепки, за которые можно вытянуть более или менее большую нить родословной. Разве это справедливо? Конечно, нет, но это, увы, так и никак иначе…
XXXIVВ первый раз я обучался в восьмом классе в одной из лучших мужских школ. Сейчас это может показаться странным, но в те времена обучение было раздельным: мальчики и юноши учились в одних школах, а девчонки и девушки в других. Школа, в которой я тогда учился, была широко известна в городе, но по-настоящему знаменитой в педагогических кругах она стала тем, что в первой четверти восьмого класса один мальчик лично отодвинул лучшую школу в Республике на 4 процента по успеваемости, у него было одиннадцать четвертных двоек, по всем предметам, кроме физкультуры, по которой, никогда не видевшая его в глаза физручка, поставила ему трояк, потому что она вообще никому не ставила отрицательных оценок.
Министр просвещения РСФСР в каком-то своем докладе имел об этом мальчике целый абзац.
Этим мальчиком был я.
Кажется, я уже писал, что учился во многих школах; менял их так часто, что не успевал освоиться даже со сверстниками-одноклассниками, и они относились ко мне настороженно, как к неизвестному и, скорее всего, опасному явлению природы. Тем более что всякий раз (хотя я и не докладывал им об этом) мои одноклассники каким-то образом узнавали, что место моего проживания Гур-гур-аул, место известное даже в нашем лихом городе тем, что заходить туда чужакам не рекомендуется.
За партой я всегда сидел один, обычно я выбирал себе последнюю парту со стороны окон, там мне было удобнее читать книжки. А если во время урока я не читал, то спал, положив на руки свою кудлатую голову. В том восьмом я почему-то гораздо чаще спал, чем читал, наверное, отроческое томление духа и тела с каждым днем набирало силу и как следует изматывало меня.
Да, в тот год я, как правило, не читал, а спал на уроках под монотонное вещание педагога или менее равномерное бормотание моих запинающихся одноклассников, вызванных к доске. Сам я к доске никогда не выходил. Когда меня вызывали, я поднимал голову и, отрицательно качнув ею, снова укладывался на руки. Мне автоматом ставили двойки, а некоторые наиболее принципиальные педагоги – единицы.
Но однажды на урок физики директриса школы привела нам новую учительницу. Она была совсем молоденькая, белокурая, с восхитительно нежным и ровным цветом лица, от которого как бы исходило сияние, а в ее лучезарных карих глазах было столько света, что он как бы охватывал весь класс.
Директриса представила учительницу Екатериной Ивановной и оставила один на один с нашим то ли восьмым «Б», то ли «А» – этого я сейчас не помню, наверное, потому, что и тогда не вдавался в такие подробности.
Учительница встала за спасительную для нее фанерную трибунку, которая торчала у доски в нашем физкабинете. Тогда пошла мода делать в школах кабинеты физики, химии, биологии. Эти кабинеты ничем не отличались от типовых классов, только ученики сидели не за партами, а за столами из лакированных древесно-стружечных плит и на стульях. И еще – перед доской было маленькое возвышение, как бы второй уровень, сантиметров на 20–25 над полом, и еще, помимо доски, фанерная, крашенная темно-коричневой масляной краской трибунка, за которую и спряталась новенькая учительница. И мне, и, я думаю, остальным совсем не понравилось, что учительница зашла за трибунку, потому что так мы вообще не могли рассмотреть фигурку Екатерины Ивановны. Но как только она заговорила, я забыл и о ее фигуре, и о том, что мне следует спать, положив голову на руки.
Голос у нее был слабый, очень взволнованный и нежный – призывный голос. Она призывала нас постичь Торичеллеву пустоту или закон Бойля – Мариотта, сейчас я точно не помню, но мне чудилось нечто другое, горячо волнующее каждую кровинку моей плоти. Я горячо сочувствовал ее волнению, ее боязни сбиться, перепутать, забыть нужные слова. Я вместе с ней переживал это волнение.
Наверное, в юной учительнице было то нечто, что зовется среди людей прелестью неотразимой женственности, то, из-за чего в древней Трое при виде Елены Прекрасной старейшины решили воевать. Этот шарм великой женственности не купишь ни за какие деньги и не выучишь ни в каком институте.
Не я один внимал ей с рабской покорностью, все мои одноклассники будто застыли в некоем полусне-полуяви, и наверняка им тоже слышалось в ее слабом, но натянутом, как струна, голосе не про Бойля – Мориотта и тем более не про Торичеллеву пустоту, а про что-то совсем другое, созвучное самым тайным желаниям подростков на пятнадцатом году жизни.