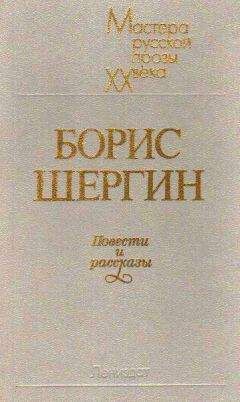Лев Брандт - Пират (сборник)
Однажды весной случайные богомольцы, зайдя в церковь, увидели, как одичавший, с давно нечесанной бородой и всклокоченными волосами батюшка стоял в полном облачении перед алтарем и читал «Чуден Днепр при тихой погоде». Попика отправили в больницу, на церковные двери навесили замок.
Теперь только раз или два в году служил в ней городской священник и приходили откуда-то богомольные старушки. Остальное время церковь пустовала.
На стенах потрескалась штукатурка, а большой зеленый купол, усеянный аляповатыми бронзовыми звездами, выцвел и облупился.
Только стаи диких голубей гнездились в куполе и нарушали безмолвие.
Посредине, между острогом и церковью, приютился маленький деревянный домик-сторожка. Он казался совсем крохотным и незаметным. В нем жила овдовевшая сторожиха с двумя рыжими детьми.
Берег по другую сторону реки был низкий, болотистый. Вдоль тянулись длинные, вросшие в землю красные кирпичные строения, похожие на сараи. От них круглый год шла удушливая вонь. Здесь стояли знаменитые кожевенные заводы. Летом вонь усиливалась, становилась невыносимой и отравляла окрестности.
Сразу же за красными кирпичными корпусами заводов начинались узкие, путаные улочки Заречья. Маленькие, деревянные домики лепились к самым стенам заводов.
Обитатели Заречья давно принюхались и притерпелись к непрерывной вони и почти ее не замечали. Большинство из них в Заречье родилось и выросло, они с детства работали на этих заводах и насквозь пропитались вонью. Горожане узнавали зареченцев по запаху.
Поздней осенью иногда бывают такие дни, когда после томительно долгой непогоды и слякоти вдруг с утра по-весеннему ярко засветит солнце. Чистое, словно выскобленное небо высоко висит над землей, а в садах, среди голых деревьев, красуются на солнце желто-зеленые тополя и оранжево-красные клены. Кажется, вот-вот набухнут почки на ольхах и липах и голые ветви их снова покроются зелеными, клейкими листьями.
В такой солнечный осенний день худой арестант, небольшого роста, широкоплечий, ходил по камере. Мешки под глазами, отросшая черная бородка яснее слов говорили, что в остроге он уже не первый день, а по легким следам загара на скулах можно было догадаться, что ему удалось захватить немного весеннего солнца.
Старческой, расслабленной походкой он сновал от окна к двери. Шесть шагов вперед, шесть назад, и так десятки, сотни, тысячи раз в день. На черном асфальте пола он протоптал белесую дорожку.
По временам арестант подходил к окошку и подолгу, не отрываясь смотрел в него.
Кусок пустынного неба – все, что он видел. Но там – за решеткой – воля. Здесь – грязная камера с железной койкой, привинченный к стене железный столик, облупленные стены и гладкая дверь с глазком посредине.
От яркой голубизны неба рябило в глазах; он тряс головой и снова начинал бродить по камере.
«Топ… топ… топ…» – однообразно и глухо стучали по асфальту его подошвы. Стены душили звук. Горела голова, стучало в висках, лихорадило. Арестант сжал холодными ладонями голову и застонал.
В тюрьме он сидел не первый раз, и ему знакомы были эти приступы временной слабости. Прежде арестант умел бороться с ними, но сегодня не находил в себе сил. Ему ни на минуту не удавалось забыться и даже мыслью уйти за пределы камеры.
В коридорах, за стеной, вверху, внизу, нигде не было слышно ни малейшего звука. Ничто не отвлекало внимания. Только изредка слышался еле уловимый шорох. Это тюремный надзиратель в мягких туфлях подкрадывался по мягкой дорожке к двери и заглядывал в глазок.
И толстая, литая железная дверь с минуту пристально смотрела на арестанта живым человеческим глазом.
Хотелось упасть на пол, биться головой о стены, кричать, кричать, сколько есть силы, чтобы оглохнуть от собственного голоса…
– Раз, два, три, четыре… десять… двадцать… сто… – арестант считал шаги. Только бы отвлечься, не думать, не чувствовать, не мучиться, не сдаться! – Две тысячи пятьсот… – механически отсчитывал он и думал о другом.
От беспрерывной ходьбы одеревенели ноги, ныли колени, кружилась голова и горло давили спазмы.
Пошатываясь, добрел он до табурета и упал головой на привинченный наглухо к стене железный столик. На миг стало легче от прикосновения к холодному металлу. Он устало закрыл глаза и… услышал шаги.
Медленные и торопливые, громкие и едва слышные, справа и слева, вверху и внизу – везде слышались шаги.
Тонкая металлическая крышка стола улавливала звуки, бережно хранила их и теперь случайно выдала тайну.
Арестант слушал не отрываясь, как слушают музыку.
Кругом были люди!
Знакомые лица товарищей, сидящих здесь бок о бок с ним, встали перед глазами.
Он больше не чувствовал себя одиноким. Даже мысль о судьбе сына мучила меньше. Поживет у Воробушкина. Не оставят товарищи.
Воробушкина – человека огромного роста с изуродованным лицом – знал весь город. Родился Воробушкин на Кавказе. Мальчиком он попал на нефтяные промыслы в Баку и очень рано сдружился с революционерами. В те годы это был красивый, веселый, немного простоватый, всегда улыбающийся юноша. Но этот юноша лучше всех умел выполнять самые опасные поручения. С тех пор много пережил и перенес этот человек. Он потерял жену, детей и даже фамилию.
Давно еще, за непомерно длинный рост, его прозвали «Дядя, достань воробушка». Кочуя по тюрьмам, он утратил свою трудную армянскую фамилию, состоящую почти из одних согласных букв, и превратился в Воробушкина.
Воробушкин появился в этом городе три года назад. Летним жарким утром он вместе с другими пассажирами сошел с парохода на берег.
Он долго стоял в толпе спешивших, толкающихся людей и казался праздным наблюдателем. Ростом он был выше всех. Люди торопливо проходили мимо одинокого человека во всем черном, с изуродованным лицом, на несколько мгновений задерживали на нем взгляд и шли мимо.
Казалось, из всей этой толпы никому не было дела до этого человека.
Но это только казалось. Человек с изуродованным лицом знал, что это не так.
Невысокий мужчина, лет тридцати пяти, нес полную корзину яблок, на ходу все время оборачивался и разговаривал с десятилетним мальчиком. Случайно он так сильно толкнул Воробушкина, что просыпал почти все яблоки. Послышался смех.
Мужчина рассердился, покраснел и, сказав сердито и громко: «Стоит истукан и посторониться не может…» – бросился подбирать яблоки.
Несколько человек забыли о своих делах и остановились, наблюдая.
«Истукан» не двинулся с места; он спокойно наблюдал за сердитым человеком, ползающим у его ног.
А тот, сидя на корточках, поднял смуглое лицо с серыми, веселыми глазами, посмотрел на Воробушкина и сказал все еще сердито:
– Помоги, чего стоишь!
Воробушкин нехотя присел на корточки.
– Я Цыганок, – сказал тот чуть слышно, не глядя на Воробушкина.
Воробушкин лениво и неторопливо положил несколько яблок в корзину и выпрямился.
Когда уже почти все яблоки были собраны, на помощь кинулся пожилой человечек, низенький, плотный, с круглым, в складках, лицом и какими-то удивительного, мышиного цвета глазами. Он начал ползать вокруг Воробушкина, словно собирался наверстать потерянное время, но наверстывать было нечего, – все яблоки лежали уже в корзине.
Цыганок взял мальчика за руку и пошел к пристани.
На мгновение по лицу Воробушкина как будто скользнула тень улыбки, он повернулся и зашагал в город. Шел он не торопясь, легко поднимался в гору. Только спина сутулилась, как у очень усталого или несущего тяжесть человека.
Поравнявшись с первыми домами, Воробушкин оглянулся и вдруг круто свернул в ближайшую подворотню.
Он извлек из кармана крохотный пакетик и торопливо развернул его. Пакетик состоял из клочка бумажки и двух десятирублевок.
На клочке бумажки карандашом было написано несколько слов. Воробушкин прочитал их, опустил деньги назад в карман, а бумажку сунул в рот и принялся жевать так, словно давно ничего не ел.
В ту же минуту на него с разбегу налетел коротконогий человечек и забормотал извинения.
Воробушкин взял его за лацкан серого, в мелкую клетку, порыжевшего пиджака, притянул к себе, как будто собирался сообщить человечку что-то по секрету, но ничего не говорил, а только молча жевал, задумчиво оглядывая его, тщетно вырывающегося из рук, потом выплюнул разжеванную массу прямо в лицо человечку и зашагал дальше.
Коротконогий не обиделся. Он несколько секунд потоптался на месте, потом пошел следом за Воробушкиным, сильно размахивая короткими ручками на ходу, стараясь не отстать от Воробушкина ни на шаг.
Воробушкин ходил очень легко, на носках, слегка наклонив корпус вперед, и почти не касался каблуками панели. Он шел все быстрее. Минут через пятнадцать он оглянулся.
Шагах в пятидесяти от себя он увидел спутника. Тот бежал вприпрыжку, широко открыв рот; на губах у него, как у собаки, лежал кончик языка. Крупные капли пота со лба падали на глаза и катились дальше по толстым щекам, как слезы. Мышиного цвета глазки посмотрели на Воробушкина жалобно и умоляюще.