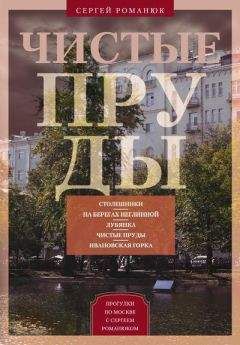Анна Бердичевская - КРУК
Чанов заметил, как Дада ухватился за Сонину руку и, словно на буксире, потащился за ней. Она руку не отняла, как бы и не заметила…
Оказывается, в демократичном Круке был отдельный кабинет. Лизка, успешно запустившая колесо литературного вечера, отвела в кабинет своих. Каким-то образом она состояла в кружке, в этом совершенно тайном обществе, цели и задачи которого были тайной для всех участников. Кроме, на сегодняшний день, Блюхера. Но и он сомневался в дне завтрашнем… Нет, не общие планы, идеи и намерения на самом-то деле правят миром. Исключительно стихийный взаимный интерес. Тяга. Как в печке, от полешка к полешку, с искорками…
В кабинете стоял стол, длинный, на порядочно персон, но стульев осталось шесть, то есть остальные понадобились на литературном вечере. Заговорщики расселись, свободными остались два стула, и совершенно ясно собравшиеся ощутили, кого не хватает: Пашеньки с Вольфом. Прибежал давешний бледнолицый Толик, принес Чанову горшок русского жаркого, которого Кузьма Андреич уже не хотел. Блюхер заказал про запас большой чайник и пирожные, Соня попросила клюквенного морсу. Дада склонился к ней и зашептал на ухо. Соня повернулась к нему и ответила что-то коротко, улыбнувшись виновато. Дада откинулся от Сони, лицо у него было как у боксера в состоянии гроги. Очень ему, как красавцу, это не шло. Чанов смотрел, видел, но как бы и не видел. Подвинул к себе чашку чаю, а горшок передвинул Блюхеру. Блюхер передвинул горшок поближе к Давиду Луарсабовичу, тот, бледнее бледного официанта, поглядел в горшок и сообщил растерянно:
– Забыл… Вина заказать.
И пошел. Заказывать.
– Что с ним? – спросил Блюхер, ни к кому не обращаясь. Ему никто и не ответил.
Чанов, например, знать не знал ответа, да и вопроса не слышал. Напротив него за столом сидела, о чем-то задумавшись, прекраснейшая из женщин, она не имела к нему никакого отношения, они были едва знакомы, но они уже были связаны. Чанов разглядывал будущее и чувствовал неизбежно надвигающееся счастье. То есть оно уже происходило, но, происходя, счастье продолжало увеличиваться, меняться, двигаться… Так спокойно, так безмятежно, именно как облако, именно, клубясь. Чанов мог смотреть на Соню Розенблюм. Мог и смотрел. Это и оказалось счастьем.
– Все-таки что с Давидом Луарсабовичем, – снова спросил Блюхер. – Соня, вы не знаете, что с ним?
Абсолютно чистая и задумчивая улыбка тронула ее губы. Она не поднимала взгляд, может, поэтому Чанову так легко удавалось смотреть на нее.
Минут через несколько в кабинет влетел бледный официант и не закричал, а почему-то просипел со свистом:
– Ваш товарищ!.. Он там, в крови… – и скрылся за дверью.
Блюхер, ближе всех сидевший, ринулся за Толиком.
В черной туалетной комнате был белый кафельный пол, по нему разливалась, увеличиваясь, алая, незнакомо и резко пахнущая лужа. Кровь капала часто, почти лилась, из белой, безвольно опущенной руки. Рука свешивалась с подлокотника кресла. «Это Давида рука», – мгновенно поверил Кузьма, и сердце его обожгло не то чтобы ужасом, но надеждой на ошибку: «Не может быть!..» В пустоватой «мужской комнате», почему-то спиной к двери картинно стояло неожиданное в Круке кресло эпохи Людовика Четырнадцатого, целиком, вместе с деревянной резьбой и мягкой обивкой дико выкрашенное бронзовой краской. В этом кресле сиживал совсем недавно Кузьма Чанов, он даже во время «сидения в Круке» в нем однажды чуть не уснул… Блюхер обошел кресло, Чанов за ним. В кресле, поводя запавшими глазами, сидел, откинувшись, Дада, достаточно живой, чтобы смотреть по сторонам, никого, впрочем, не узнавая. Дада зажимал свое левое запястье правой окровавленной рукой.
– Лизу зови, бинты нужны и полотенце, три полотенца! – крикнул Блюхер официанту и выпихнул его, а с ним и заглянувшую было Соню в коридор.
Чанов тем временем уже снял с шеи Дада парижский галстук и стягивал шелковой петлей порезанную руку Давида. Кровь из запястья стала сочиться медленней. Вбежала перепуганная Лизка. Поглядела на порез и во всем разобралась. Она склонилась над раненым с раствором перекиси водорода и пропела своему строгому преподавателю основ мировой политэкономии:
– Ах, ты мой маленький, глупенький мой… – тонким деревенским голосом напевала она, промывая порез, она говорила ему жалостные, самые простые и правильные слова, – слава тебе господи, будешь жить, будешь! Ах, ты мой бедненький!.. Ну-ка потерпи, потерпи, сейчас пощиплет слегка… вот так, вот так, и не отбивайся… А то щас как дам! – это уже басом и грозно прикрикнула Лизка. – Ишь ты, удумал вены резать в присутственном месте, совсем совести нет! Хорошо хоть, не знаешь, где вены. Это нам повезло… Да и тебе повезло, и тебе, мой хороший, мой миленький, – снова запела она добрую ласковую песенку, уже умывая ему лицо, запачканное кровью, – будешь у нас красавчиком, все пройдет, все до свадьбы заживет…
Чанов с Блюхером подхватили Дада под мышки и отвели в кабинет. Он послушно перебирал ногами. Толик по указанию Лизки приволок в кабинет бронзовое кресло и помог усадить раненого. Все стихло. Дада неожиданно и немедленно уснул. Только Соня звонко икала, свалившись на плечо Блюхера. Чанов смотрел на нее, он знал наверняка, что именно ему на плечо Соня должна опускать голову… и икать – ему. Но твердая эта уверенность поплыла во мрак и холод, потому что Дада застонал. К компании вернулась Лиза, села между Блюхером и Чановым и негромко отчиталась:
– Значит, так. Лужа на полу не только кровь, но главным образом вино. Он там бутылку разбил, осколком горлышка себя и резанул. Правда, сильно. Но потеря крови небольшая, мне кажется. Что еще?.. «Скорую» я вызвала…
– Не надо «Скорую», – отозвался, не открывая глаз, Дада.
– Нет, Давид Луарсабович, милицию не надо, раз живой, а «Скорую» надо, – твердо возразила Лиза. – Рана глубокая, рваная, ее обработать надо, да и сшить кое-что. Сосуды не самые главные, но сухожилия… однако я в этом плохо разбираюсь. Опять же, сыворотка столбнячная не помешает. Пусть там разберутся, да и помучают пациента. Чтоб наперед неповадно было… А пока что… напоите-ка его чаем, не горячим, но сладким. Сейчас Толика пришлю.
Она встала, открыла дверь и за порогом сразу же столкнулась с двумя посетителями.
Это были Павлуша с Вольфом.
Отцы и деды
Павел с мороза сиял румянцем во всю щеку, но и Вольф казался необыкновенно бодрым и собранным. Небольшое воинское соединение на марше. Оба именно были собраны. Вольф поверх пальто был подпоясан ремнем, плечи его браво оттягивал назад туго набитый рюкзачок, при Паше была прикомандирована клетчатая сумка на колесах (подарок Магды) с половиной тиража «Розовощекого павлина» и гречневой подушкой. Но главной форменной частью экипировки подразделения были совершенно родственные друг другу вязаные шапки, натянутые до бровей, и в комплект им перчатки. Изготовлены оба комплекта были с разницей в один год Пашиной мамой из овечьей шерсти с примесью подшерстка Путика и Буяна. На шапке Вольфа можно было обнаружить нечто вроде маленькой звездочки – застывшую каплю малинового варенья.
Не успели вновь прибывшие поздороваться, раздеться и понять, что же случилось, в кабинет вошли похожие на сантехников врач и фельдшер.
Всех, кроме Блюхера и потерпевшего, из кабинета выставили. Потоптавшись в коридоре, Чанов, Соня, Вольф и Пашенька побрели в синий зал Крука, то есть на литературный вечер. Не торчать же им было в красном коридоре, где дымили сигаретами, трубками и сигарами литераторы, а между ними бегали из кухни в зал и обратно, как ошпаренные, бледный Толик и еще два официанта.
Вольф решительно обнял за плечи Соню, и она сразу же благодарно прижалась к нему. Протиснувшись в зал, Вольф огляделся и обнаружил, что народу было хоть и много, однако же не через край, подальше от сцены пустовало несколько стульев и даже лишний стол. Вот туда и двинулся Вольф с Соней под мышкой, оберегая ее ото всех. За ним потянулся Паша, а следом и Чанов… которого вдруг пронзило случившееся. То есть едва не случившаяся гибель Давида Луарсабовича Дадашидзе. Это оттого, возможно, что из мужской комнаты, из приоткрытой двери, когда шли мимо – словно сгусток тьмы вылетел, и слабо, но отчетливо кровью-вином пахнуло. На Чанове лица не стало, какая-то маска с померкшими глазами. Пахнуло кромешной тьмой, окончательным холодом. Ужасом. И еще: Чанова осенило, что все стряслось из-за Сони. Что-то она натворила с этим красавцем… До сих пор Дада и не казался никем, кроме именно красавца с черной затейливой эспаньолкой. Джокер в колоде Блюхера. А он – вон что… Во-первых, живой. А во‑вторых – чуть не умер! От любви. Или от унижения? Или что?! Как же она с ним это сделала? Как она обнаружила в нем и вывела на свет божий столько отчаяния?.. И тут же тревожно мелькнуло: «Если дело так пойдет дальше, она его полюбит! Пожалеет и полюбит»… Чанов шел по набитому народом Круку и не замечал этого. Третья, самая невероятная, и даже какая-то нескромная догадка возникла: на самом-то деле все произошло, хоть и через Соню, но из-за него, из-за Чанова. То есть человек чуть не погиб. Не было никаких прямых улик. Был давешний, вчерашний Сонин взгляд, скользнувший по Чанову, когда она вдруг перекочевала к Дада. «Меня позвал не ты. Не к тебе и пойду» – вот что значил ее взгляд. А он-то, многоопытный и, можно сказать, коварный, хоть и ленивый бабник, закрыл глаза, позволил, разрешил Соне эту ее «гордую уходку»… Он сам, лично Чанов, пожилой командир космического корабля, преспокойно потерял не то чтобы бдительность, но вообще сознание. Ведь в самом деле глаза закрыл и для верности отвернулся. Какого дьявола он ее чуть не потерял и чуть не угробил постороннего, но ведь живого и горячего красавца!