Татьяна Москвина - Жизнь советской девушки
Фильмы стран соцлагеря зритель в целом стойко не выносил. Он был убеждён, что киноленты, как и прочий товар, может производить страна, где есть т. н. "фирма" (с ударением на последнем слоге). Кто делает лучшие ботинки и пиджаки, тот делает и лучшее кино – Америка, Англия, Франция, Италия. Всё, список закрыт. (А, ФРГ – но лента марки ФРГ пробивалась в типовой кинотеатр как редчайшая птица, потому что, кроме вражьей ФРГ, у нас имелась дружеская ГДР со студией "Дефа", а на студии "Дефа" клепали картины с утра до вечера, и в их числе вполне кассовые фильмяги про индейцев…)
Скажете, нет логики, когда это железная логика?
Советские отборщики, конечно, знали о предпочтениях масс. И отчасти им потакали, но своеобразно. Скажем, Италия и Франция 70–80-х были скорее родственными, чем противоположными друг другу странами, при всех национальных особостях. Но Франция в нашем прокате оборачивалась страной любви и веселья (покупали амур-тужур и комедии), тогда как Италия представала областью, населённой исключительно мафией и полицейскими комиссарами. Никакого Висконти в нашем прокате не существовало (до сокращённого "Семейного портрета в интерьере"), Антониони появился только раз – с картиной "Профессия: репортёр", которую трудно заподозрить в пропаганде буржуазного образа жизни. И Феллини тогда попал под раздачу, перестал быть сугубо "прогрессивным". Американские фильмы тоже допускались только "прогрессивные", то есть с критикой существующей действительности.
Но Франции был выдан некий "розовый билет", по которому французские проблемные фильмы с критикой наличной реальности строго тормозились на границе. Франция не имела никакого права на то, чтобы из оазиса блаженства превратиться в какую-нибудь мрачно-эффектную дыру, где чёрно-белые комиссары полиции делают признания прокурорам республики! Впоследствии на форпосте рациональности, где социальным проблемам отдано столько сил и времени, что нам и присниться не может, с изумлением встречали восторженных северных варваров, влюблённых в какую-то мифическую страну жовиальных идиотов, которую они упорно считают Францией…
А я – вот она я, в шубке искусственной цигейки, в шапке с ушками из голубого искусственного меха, русая коса до пояса – бегу через пустырь к своему кинотеатру, бренча тридцатью копейками. Если нет наличных, можно сдать бутылки – пункт приёма в задах нашего "Гастронома". Три бутылки – и вот тебе билетик. Я смотрю всё. Даже фильмы студии "Дефа", даже польские и венгерские – в почти что пустом кинозале.
Это была эпоха, когда лица на экране были огромными, а зритель – маленьким. Маленький зритель внимал, трепетал, верил, сострадал – тем, огромным и прекрасным. (Теперь всё наоборот: как правило, огромный зритель сидит и смотрит на маленьких людей на своём домашнем мониторе. Коренной перелом масштаба!)
И все эти огромные и прекрасные люди, все страны, которых мне никогда не видать (разве чудо?), все диковинные истории – всё утекает в мою маленькую голову, поглощается и переваривается там, в тайных темнотах.
Картина мира, которая складывалась из просмотренных фильмов, была, разумеется, фантастической, но, следует заметить, – она была разнообразной. Не зря мой кинотеатр звался "Планета".
Три фильма, просмотренных в "Планете" не раз и не два (доходило до десяти – двенадцати), могу выделить особо, как принципиально важные, повлиявшие на мировоззрение.
"Моя прекрасная леди" Кьюкора на музыку Лоу, с Одри Хепбёрн. "Зенит излёта" великого Голливуда 30–60-х, один из последних безусловных триумфов Фабрики грёз. Никаких точек соприкосновения с отечественной действительностью ("прекрасная леди"!). Оказывается, жизнь (хотя бы собственную, в виде наличного белкового тела) можно и нужно украшать, наряжать, совершенствовать эстетически. Мы, девочки 60–70-х, в глаза не видали ни Дитрих, ни Гарбо – и свидетельством победы красоты (гармонии формы) над бесформенностью стала для многих из нас именно Хепбёрн и именно в "Моей прекрасной леди". Это был отвлеченный, возвышенный до предела идеал, достичь которого мне и не приходило в голову (по внешности мы с Хепбёрн были антиподами). Важно было само существование нарядно-прекрасного, которое возможно было созерцать почти три часа за копейки. Пять платьев Хепбёрн-Элизы я запомнила до мельчайших деталей на всю жизнь – без малейших же попыток что-нибудь эдакое сшить и надеть. Да и где найти профессора Хиггинса? Кроме того, пропуском в рай, как это строго указал ещё автор пьесы "Пигмалион", была божественная английская речь – а вовсе не русский, хоть он велик и могуч.
Велик и могуч без спора, но в мире, им образуемом, нет и не может быть ни скачек в Эпсоме, ни бала у королевы, ни того невероятного розово-лилового шёлкового платья, в котором Элиза пьёт чай у матушки профессора в конце фильма. Великий и могучий и не предполагает, что люди могут просто и беспечально пользоваться благосклонностью Творца, наслаждаться жизнью и время от времени переодеваться!
Мне в такой мир не попасть, но я могу хотя бы на него посмотреть…
"Король Лир" Козинцева открыл для меня космос Шекспира как пространство, заключающее коды всего, что было, есть и будет.
Питомец мировой культуры, Козинцев был на редкость свободен от советской провинциальности, которой не было в 20–30-е годы и которая стала проступать из-за идеологической изоляции в годах 40–50-х. Потом опять взлёт 60-х – и опять постепенное опускание в болотце. Но Козинцев-то, по определению Шварца, был "пижон и денди" 20-х годов. Он был родом из свободного, вольно общавшегося с миром начала века, он мысленно соизмерял себя только с великими образцами. Он искал вечного пространства, "пространства трагедии" (так называлась его книга о Шекспире), где не будет ничего мелкого, суетного, сиюминутного. Ничего советского, можно сказать. Поэтому Шостакович, поэтому запредельное лицо бритоголового Шута-Даля, с его мировой скорбью, поэтому суровые резные лица прибалтийских актёров…
Странно, но фильм Козинцева очень нравился бабушке Антонине, когда шёл по телевизору. Наверное, тема неблагодарных детей так задевала её суровое сердце? Бабушка вздыхала, вытирала слёзы и говорила свой обычный приговор тем картинам, что эти слёзы вызывали:
– Тяжёлый фильм!
В искусствоведении таких категорий нет. Видимо, это народный словарь. Ведь у Островского, в пьесе "Тяжёлые дни", весёлый летописец замоскворецкой жизни Досужев смеётся над тем, что, дескать, "здесь дни разделяются на лёгкие и тяжёлые".
Да, не научное определение, но мы же понимаем, что хотела сказать бабушка Антонина, и "Король Лир" – действительно "тяжёлый" фильм.
Вот не знаю, что сказала бы моя бабушка о "Солярисе" Тарковского, его по телевизору не показывали, но именно "Солярису" принадлежала моя потрясённая душа. Я смотрела этот фильм не меньше двадцати раз.
Восторги и восхищения у нас особо-то не одобряются – считается, это что-то детское, инфантильное, сомнительное. Я так не считаю и была счастлива найти столь авторитетного сторонника, как Томас Манн. Для него восхищение – "стихия чистейшая и вместе плодотворнейшая, благоговение и побуждение к соревнованию, оно учит высоким притязаниям и являет собою стимул к собственному духовному творчеству. Оно – корень всякого таланта. Там, где его нет, где оно отмирает, там не уродится ничто, там будет духовная нищета и пустыня… Дар восхищения, способность любить и учиться, умение усваивать, ассимилировать, преобразовывать и создавать свои, новые формы лежит в основе любого крупного таланта… Восхищение – лучшее, что у нас есть, восхищение – начало любви, даже сама любовь…" (статья "Рихард Вагнер и "Кольцо Нибелунга"").
Не тупое поклонение, не обожание – а именно восхищение, основанное на глубокой способности воспринимать чьё-то творчество, является мощной силой развития личности, считает Манн. Такое восхищение вызывали у меня фильмы Тарковского "Солярис", "Андрей Рублёв" и "Зеркало".
В те годы издавалась газета "Кинонеделя", где все фильмы недельного репертуара писались по алфавиту в столбик, а рядом – номера кинотеатров, где они шли. Кроме больших новостроечных корпусов, были старые известные кинотеатры ("Аврора", "Нева", "Колизей" и т. д.) и огромное количество кинозалов во Дворцах и Домах культуры (д/к). Всякий фильм сначала шёл первыми экранами, а потом перекочёвывал в бесчисленные д/к к нетрезвым киномеханикам. Уже поцарапанные, оборванные, кое-как склеенные, с мутными пятнами и белыми зигзагами, картины всё равно прилежно работали, несли копеечку в советский бюджет. Вот там-то, иногда у чёрта на рогах, в каких-нибудь голимых концах городских каналов, за фабричными заставами (д/к Цурюпы, моряков, офицеров, Маркса, Ильича…), я отыскивала своё счастье. Там я ловила "Фанфан-Тюльпана" с Жераром Филиппом, там разыскивала "Преступление и наказание" Кулиджанова.
А где сегодня "Рублёв"? Находишь, тащишься, платишь свои тридцать копеек.
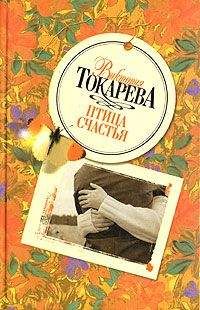
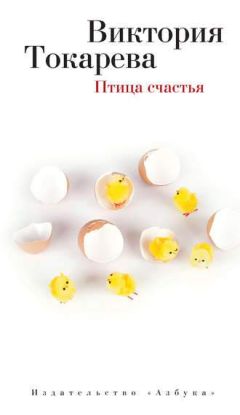
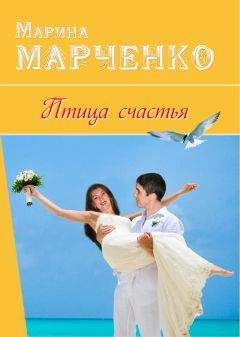
![Конни Мейсон - Птица счастья [Птица страсти]](/uploads/posts/books/18097/18097.jpg)
