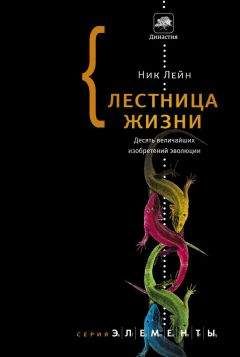Михаил Юдсон - Лестница на шкаф. Сказка для эмигрантов в трех частях
Прокуренный самосадным ладаном вагон подземки швыряло и раскачивало, дуло в разбитые оконца, двери дребезжали. Звеня, перекатывались по полу пустые стклянки из-под песцовки.
Илья сидел в углу на перевернутом ящике, возле бака с кипятком, уцепившись за свисавшую сверху веревочную петлю. Звякало дырявое мусорное ведро в ногах. Соломонкина звезда Давидки, однозаветная, была намалевана на вагонной стене прямо перед ним, под табличкой «Места для отходов и иудеев». Коряво и старательно каким-то Книжником от руки было приписано: «О foetor judaicus!»
По вагону то и дело бродили личности в потертых власяницах, упирали в кадык жертве позвякивающую кружку для пожертвований, гнусаво требовали: «Пода-айте, люди добрые, на Третий Храм Христа Спасителя!»
Илью тоже раз толкнули в спину: «Эй, человече…», пригляделись: «Тьфу ты, нечисть пакостливая, мерзляк, брысь, брысь!» Отшатнулись, отмахиваясь руками, бормоча: «И изыдут оне в Израыль, отколь, изрыгнуты, выползли… Идише идяше вспяше…»
На остановках заходили страшные слепые патрули с остроухими русланами-поводырями, капающими, рыча, слюной с клыков, — проверяли на ощупь проездные тавра, вслушивались, кто где сидит, как себя ведет. На Илью только повели белыми пустыми глазницами, принюхиваясь — передвигается ли строго вдоль стенки, — но не трогали, даже лапу на него не подняли, слава тебе Яхве!..
Вокруг миряне, сняв шапки, истово хлебали чай, расплескивая при толчках вагона, хрустели вприкуску, говорили о том, что лукавый, что ли, миром ворочает, ей-бо, — вот надысь в церкви Вынесения Всех Святых опять заплакала угнетенно чудотворная икона Василья Египтянина, а с малых губ Пресвятой Вульвы-великомученицы слетел вздох; что в Раменском экзархате на звоннице колокол, отбивавший точное время, сам собой ударил в семь сорок, и остановить бесовские перезвоны было весьма непросто; в Охряной Лавре же кой-какие мощи, источавшие по сей день благовонную мирру, запахли вдруг чесночищем; и, наконец, шо при ремонте шпал на станции Охотный Ряд нашли глубоко замурованную капсулу, а в ней шапку с зашитыми заветами некоего Лазаря Моисеевича сыну своему Еруслану и планом тайных ходов под всей Москвой, чтоб, значит, отсидеться, когда грянет час расплаты, мужик перекрестится и придут громить.
Сходились все, утирая вспотевшие шеи, на том, что это видано ли, льды небесные, какие мучения на русской земле от проклятых недоверков (мало их амалекитяне дрючили), и не дивиться надо, а давить давно этих выползней и в чистом поле, и на стенах — до последнего-с!
Илья, скорчившись, скрючившись в три погибели, сидел на своем ящике и пытался задремать. Печку в вагоне топили кизяком, дым шел с дополнительным запахом.
«Осторожно, православные, двери закрываются! — выл вагонный кликуша. — Следующая станция — Площадь Жидов-та-Комиссаров!..»
Люди, подходившие за кипяточком, пихали Илью коленями. Лампада над головой несмазанно скрипела и раскачивалась. Стучали колеса. Он ехал в школу.
Собственно, вчера вечером Илья уже наведывался туда — к директору. Про тамошнего директора среди практикантов ходили жуткие слухи, что он с учителями не церемонится и уже двух засек «на воздусях» — а ты ему поднеси! Да, так вот, вчера Илья уже нанес ознакомительный визит — внизу, в школьном вестибюле, веничком обил с себя снег, для удачи трижды высморкался через левую ноздрю, приговаривая «Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто», испытывая понятное волнение, пропрыгал на одной ножке по широкой лестнице на второй этаж, причесался у висевшего на стене довольно кривого зеркала (ужель такая прямо кучерявость и саблезубость?!), заправил пейсы за уши и робко постучал в дверь с надписью «Директор». Раздались быстрые шаркающие шаги, и дверь распахнулась. Директор, внушительный мужчина, стриженный в скобку, нос клубнем, могучие надбровные дуги — в отличие от большинства чиновничества, видать, никогда не подкрадывался к двери, не приникал ухом, не спрашивал дребезжаще: «Хто-й там?», не вглядывался изнуряюще в специально просверленную дырку, замаскированную сучком. Не-ет, он широко распахивал дверь и, поигрывая гирькой на ремешке, радостно басил: «Кто к нам, однако, пришел! Илья Борисыч к нам пришел, однако!»
— Вы меня знаете, владыко? — изумился Илья.
— Да уж сообщили, что придет на практику… некий… — помрачнел директор. — Трудно ошибиться, м-да… Ну, вытирайте ноги, проходите в келью, однако…
Илья прошел, озираясь. Стены директорских палат были расписаны аллегорическими сюжетами на мотивы Книги — виденьями светлого Леса (где, как известно, все мы будем, если будем хорошо себя вести), Лугов Счастливой Охоты — «глянь, ягель вечно зеленеет».
С потолка свисали вязки сушеных грибов, торчали из-за икон пучки сухих трав.
Директора звали Иван Лукич, и был он Книжник — в подобающих длинных одеждах и в мягких юфтевых калошках с опушкой.
Деликатно поддерживая Илью под локоток, он усадил его на привинченную к полу табуреточку возле заваленного тетрадками и дневниками стола, а сам неспешно опустился в роскошное продавленное кресло с оторванными подлокотниками.
— Значит, на практику к нам? — начал он, ласково улыбаясь и внимательно рассматривая Илью. — Хотите, выходит, на нас попрактиковаться? Та-ак.
Он посуровел, побарабанил пальцами по столу, выудил из-под бумаг пакетик с толченым грибом, забил в ноздрю щепотку серого вещества, втянул, покрутил головой: «Ум-гм». Потом вытер заслезившиеся глаза и внезапно ухмыльнулся и подмигнул Илье:
— А что ж вы, Илья Борисович, уж простите старичка за назойливость, не уползаете к себе подобным? Чего ждете — очередного Яузского погрома? Так он уж вот-вот, близ есть, при дверех… Ох, смотри-ите, кухочка, скоро уже не в городскую управу, а в юденрат придется обращаться!..
Он перегнулся через стол и горячечно зашептал:
— Декрет, слыхали, готовится касательно вашего брата: жить вам теперь позволяется только на чердаках и в подвалах — так-то! Балагур-народ наш уже прозвал этот указ: «В лесах и на горах».
Директор радостно шипел и брызгал слюной:
— Так что скоро наступит Песец вам — поднимется агромадная нога и раздавит шестиглавую гадину!.. Придет великая ОМЕГА и покроет все — считай, читай отходную! В пустых горелочных бочках не отсидитесь!.. А вот тут у нас, Илья Борисович, детские поделки…
Сопровождаемый сипло дышащим директором, Илья подошел к тумбочке в углу и стал тупо рассматривать расставленные изделия из желудей, вышитые подушечки для иголок, выточенные из песцовой кости фигурки — Патриарх на лыжах, Протопоп на Марковне…
Директор ходил рядом по келье и воздыхал, но ничего не сделал, только перебирал четки из песцовых клыков, возведя очи горе, дабы успокоиться. Илья тоже смотрел на потолок — потолок был сильно закопчен и покрыт фресками «Мучения Учителя».
— Я ведь, дорогой мой человек Илья, в педагогике давно, — неожиданно спокойно заговорил директор. — Еще со времен разрушения Второго Храма Христа Спасителя. Ты еще в хедер бегал — засранцем с ранцем, когда я уже в медресе гремел!.. Зубами стучал! Тогда аж чернила в непроливайках замерзали, дидактический материал — глиняные таблички — в руках крошился… А каких только веяний не пережил, не насмотрелся — то метла новая, то собачья голова другая…
Он включил настольную лампу в виде песца, стоящего на задних лапках, и в кабинете стало совсем уютно.
— Да вы садитесь, садитесь, — махнул он Илье, — чать, умаялись юлить за день… Чуда великого тут все равно не случится!
За узким высоким окном медленно падал снег. Директор, расслабленно улыбаясь и почесывая угреватый нос, делился с Ильей опытом. Он, Ван-Лукич, принадлежал к «старой школе», к старым мастерам («Бесстрастие и недеяние. Жизнь, наполненная днями, а не гешефтами»), и все эти суетливые новомодные штучки — линейкой по рукам, коленями на бисер, сосульку за шиворот — он не признавал. Только хорошо вымоченная, выдержанная, мореная, так сказать, хворостина — вот его метода! Благая весть от Лукича! Розга есть розга есть розга…
Иван Лукич достал берестяную тавлинку, потянул, открывая, за ременную алефку, ритуально постукал два раза по крышке («отпрянь, шаромыжник») и, священнодействуя, высыпал трошки серого порошка на бумажку. Потом зарядил ноздрю свежей понюшкой, прослезился, засмеялся и, корча уморительные рожи, с лукавыми ужимками принялся декламировать щирого сковороду Тараса Григорьича:
«Вин жид, и в тим його вина,
Що вбив гвиздь в Божьего Сына».
Илья вежливо слушал, уставясь на стенку, по которой вприпрыжку бежали к Реке счастливые нарисованные обитатели Леса — доброго безопасного Леса, где едят мед и траву и вечный досуг заполнен смехом (потом он рассмотрел подпись под сюжетом — эта была притча про Пятачка, в которого вошли бесы).