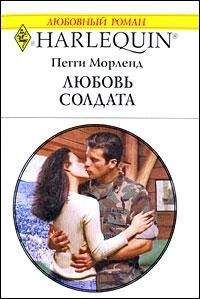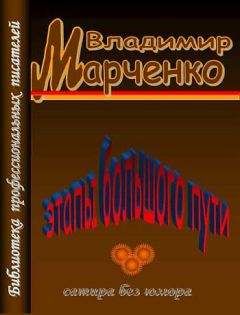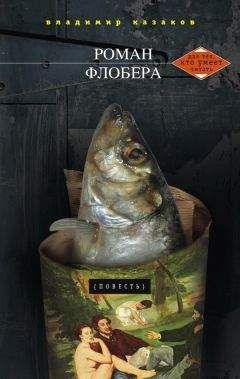Владимир Лидский - Два солдата из стройбата
После бани Петров и Пшеничников увидели детину в казарме посреди толпы новобранцев. Присоединившись к сослуживцам, они услышали поучения сержанта: «Фамилия моя – Мокеев, имя же – вам знать не надобно, я ваш инструктор до присяги, а обращаться ко мне будете по званию: товарищ, мол, сержант, так и так, разрешите доложить…»
Тут Мокеев велел всем рассесться по табуреткам на широкой «взлётке», сам сел в середине и на глазах у личного состава принялся снимать сапоги. Он выпростал ступни из голенищ, отбросил в сторону портянки, и Петров с ужасом увидел его красные обваренные ноги. Мокеев поднял одну портянку и как ни в чём не бывало торжественно провозгласил: «Так, показываю! Цепляете угол портянки за носок, оборачиваете ею ступню, сгибаете угол, заматываете натянутым полотнищем лодыжку и накидываете его конец на голень! Так! Понятно? Делаем!» И пока мальчишки кое-как крутили портянки, сержант ходил по «взлётке» босиком, волоча за собою тесёмки галифе и бормоча в адрес неумех матерные проклятия. «Что… есть… портянка для солдата? – возвращался он порой к нормальному голосу. – Портянка для солдата есть стратегическое средство обеспечения солдатского комфорта… Поэтому… если самим солдатом не обеспечивается должный уровень внимания к собственной портянке… и она наматывается кое-как… то данный солдат не может считаться боеспособной единицей… а считается обозным арьергардом! Если у солдата вследствие неправильной намотки портянок… сбиваются на нежных пятках кровавые мозоли… то сей солдат считается командованием нашей армии, всем советским народом и лично мною пожизненным врагом. Ибо… кровавые мозоли… есть неприкрытый саботаж воинских задач и преступное небрежение своим армейским долгом…» Так поучал сержант Мокеев новобранцев, поглядывая временами на Пшеничникова и Петрова, сидящих рядом и синхронно мучающих свои портянки…
Через пару дней новобранцы стали свидетелями неприятной сцены. Человек двадцать пацанов утром, после завтрака драили мастикой деревянные полы казармы. К Пшеничникову, работавшему в дальнем углу, подошёл вертлявый паренёк, что-то спросил, тот ответил односложно и резко. Паренёк повторил свои слова – Василий повторил ответ, выставив вперёд правую ладонь, словно пытаясь отгородиться от вопрошавшего, и слегка покачал ею. Но тот вынул из кармана деньги и протянул Пшеничникову, который снова выставил ладонь и ещё более твёрдо покачал ею. Тогда вертлявый сделал короткий шаг к Василию, стал чуть сбоку и, локтем ухватив его за горло, повалил на пол. Всё произошло молниеносно. Петров даже не успел отреагировать. Вертлявый ухватил жадною рукою шелковый гайтан на шее пацана и с силою рванул на себя. Но прочный шнурок не поддался. Тут на помощь Пшеничникову подоспел Петров. Дав вертлявому хорошего пинка, он приподнял перхающего Василия и помог ему встать на ноги. На шее у парня рубиновою полосою пламенел горячечный рубец…
Прошло ещё несколько дней, в течение которых новобранцы осваивали строевую подготовку, зубрили Устав, дремали на политзанятиях, мучали на кухне картошку, раздражая своею неумелою чисткою поваров и кухработников, а серебряное распятие Пшеничникова, между тем, блазнило многих и на многих навевало отнюдь не богоугодные мечты.
Как-то раз с утра пораньше сержант Мокеев проводил с новобранцами занятия по строевой подготовке на плацу. Разучивали торжественный шаг вкупе с песней «Через две зимы…» и Пшеничников, видать, не очень склонный к строевому регламенту, довольно часто сбивался с ритма, злостно нарушая размеренное движение всей роты. Мокеев долго терпел это безобразие, но в конце концов не выдержал, остановил пацанов и приказал Василию выйти из строя. Тот вышел, слегка прихрамывая. Сержант презрительно оглядел его и велел разуться. Мучительно краснея, Пшеничников снял правый сапог. Портянка была накручена кое-как, сбита и вдобавок украшена несколькими бурыми пятнами. Мокеев, увидев это, взъярился. «Та-а-а-к, товарищ солдат… – сказал он с нескрываемою злобою, – что же это значит? Это значит…» Он подтянулся и засопел, словно бык, которому под самый нос сунули красную тряпку да вдобавок двинули по морде вонючим махорочным кулаком. «Это значит, – повторил он, – что вы не желаете служить, саботируете требования Устава и командования! А это позор, который можно искупить только кровью!»
Пшеничников задрожал. Он стоял спиной к строю и слышал сдавленные смешки своих товарищей. «Этот ещё не принявший присягу воин, – продолжал Мокеев, – достоин самого глубокого осуждения товарищей. Вот он до сих пор не научился наматывать портянки, – а почему? Да потому что мысли его не в строевой службе, не в Советской Армии и не в воинских установлениях! Мысли его – в религиозном тумане, в молитвах и переговорах с Богом. Он не хочет разговаривать с командиром, он беседует, видите ли, с небесами…» Сержант приблизился к Пшеничникову и совсем-совсем тихим голосом, чтобы не слышали другие, пробормотал: «Сними крест, религиозник! Не то я из тебя твоё мракобесие дубиной выбью! Снимай, щенок! Сейчас снимай!..» Василий стоял перед сержантом навытяжку и, опустив глаза, тупо смотрел в надраенную пряжку прослабленного командирского ремня. Мокеев протянул руку, вынул из-под гимнастёрки Пшеничникова шёлковый гайтан и готов был уже дёрнуть за него, но тут Василий поднял веки и в упор взглянул на своего командира. Сержант смешался. Однако в следующую минуту он подсобрался, бросил шнурок и громко объявил: «Приказываю вам, товарищ солдат, в наказание за циничное пренебрежение службою принять на себя исполнение почётного труда: извольте отправиться на парашу и вычистить её очки до зеркального блеска! Шваброй пользоваться запрещаю – уж больно результат труда после её примененья нехорош! Возьмите свою зубную щётку и ею уж постарайтесь ради блага отечества и его победоносной армии!»
Пшеничников неуклюже обулся и понуро поплёлся в казарму.
Весь день до обеда он драил зубною щёткою парашу. И с обеда до ужина он делал то же самое. Сержант Мокеев несколько раз в течение дня приходил попроведать его и только ухмылялся, мстительно оглядывая результаты работы. А вечером перед отбоем он вызвал Василия в спальное помещение казармы и при всех велел ему чистить зубы загаженною щёткою. Пшеничников после сержантского приказа долго стоял в недоумении, не в силах осознать, чего хочет от него Мокеев. Сержант же, видя необходимость заполнить эту тягостную паузу, время от времени монотонно приговаривал: «Ну… ну… ну…» Наконец Василий понял иезуитский смысл командирского приказа и тягостная безысходность мелькнула в его тусклых глазах.
Левою рукою достал он из-за пазухи свой крест и, зажав его в ладони, правою поднёс ко рту грязную зубную щётку. Глядя Мокееву в глаза, он засунул её в рот и принялся с остервенением чистить зубы… В роте повисла гробовая тишина…
День следующим утром начался обычно. После завтрака – строевая подготовка, после обеда – политзанятия, разбор международного положения Советского Союза, вопросы по Уставу; после ужина – свободное время, которое пацаны употребляли по своему усмотрению – кто-то писал письма, кто-то состирывал подворотничок, кто-то гладил «хэбэ» в бытовке.
Пшеничников с Петровым сидели в Ленинской комнате за соседними столами. Перед каждым лежал раскрытый Устав. Но не Устав штудировали они. Василий рассказывал товарищу о страстях Христовых и о страстотерпцах из Лиона. Свои любимые истории о первых христианах доносил он до Петрова с истовостью проповедника и с болью праведника, а Петров… Петров молча слушал, и молчание это можно было бы расценить как увлечённое внимание, если б не его горящие глаза, в упор уставленные на рассказчика. Это было более, чем просто увлечённое внимание, это был порыв, почти восторг… Через полчаса к ним присоединился ещё один новобранец, заинтересованный какою-то необычною беседою товарищей, чуть позже подошли ещё двое. И заслушались…
До принятия присяги оставалось всего несколько дней и в один из этих дней Пшеничникову через дневального передали приказ явиться в канцелярию роты к майору Коломийцеву.
Пшеничников поправил пилотку, подтянул ремень и, подойдя к дверям канцелярии, робко постучал в дверь. Услышав командирский голос «Войдите!», он потянул дверь за ручку и бочком протиснулся в образовавшуюся щель. «Можно войти?», – стоя на пороге, тихо спросил он, примечая в углу канцелярии сидящего на стуле сержанта Мокеева. «Можно козу на возу, – злобно ответил майор Коломийцев, – или Машку на сене… а в армии, товарищ солдат, принято говорить «разрешите» …Покиньте канцелярию и войдите по форме!» Пшеничников, покраснев, смешался и вышел. «Разрешите войти, товарищ майор!», – постарался сказать он бодро, повторно являясь на пороге. «Разрешаю!», – откликнулся командир.
Коломийцев сидел за письменным столом, вальяжно развалившись в кресле и уперев локти в бумаги, рассыпанные на столе. Позади него, на старом учрежденческом шкафу стояла большая обшарпанная клетка с красивым лимонным кенарем, который, скосив изумрудный глаз-пуговку в сторону Василия, мелодично затренькал. Майор любовно оглядел птичку и повернул голову к вошедшему. Осмотрев Пшеничникова, он остался недоволен его видом. «Что же это вы, товарищ солдат, являетесь перед командиром в таком виде – сапоги запылённые, ремень ослаблен, гимнастёрка – комом! А верхняя пуговица у вас вообще расстёгнута, – это же беспредельное пренебрежение Уставом! Может быть, вы тем самым показываете своё коренное отличие от прочих? Да, я вижу в том месте, где у вас расстёгнута пуговица, – шёлковый шнурок, вероятнее всего – с крестом, но это не даёт вам права быть лучше прочих. Вы не в храме и не в семинарии, вы, товарищ солдат, в Советской Армии, где нет места, между прочим, религиозной пропаганде, которую вы сеете направо и налево! Кто позволил вам создавать здесь какие-то секты и втягивать в них молодых бойцов, кто разрешил опутывать религиозными сетями неокрепшие души новобранцев? Вы мне прекращайте это мракобесие! Здесь место работе замполита, социалистической идеологии и коммунистической морали! А вы мне тут дурите мозги всепрощением и пацифизмом!..»