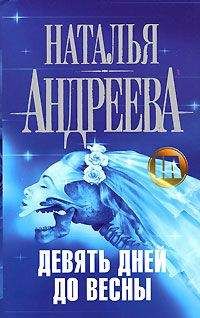Наталья Волнистая - Девять дней в июле (сборник)
– Да ни в жись, ни в жись больше, вот клянусь, пусть меня, на этом месте прям… – Кузьмич запнулся, страшную кару видал он, как комбайнера спьяну раздавило, но показалось ему кощунственно при ангелах сказать.
Клава схватила кота:
– Мотя, родной, открой глазки.
Кот озирался.
– Положь на землю, передохнуть дай, чево мнешь-то животную!
Кот лег, потянулся, замурлыкал, и друзья облегченно вздохнули.
Воистину воскресе!
С тех пор как Кузьмич перестал пить, начальство повадилось к ним в избу. Якобы просто так, проведать.
А тут, смотрит Клава в окошко, председатель и парторг вдвоем грязь месят.
Клава их не любила, туманили мозги: то будущее, для которого из сегодня надоить чего-нить надо, то Африка лезет, там голодные, как будто тут сытые. Но приличия соблюдала, не встревала лишнего, и чаю с баранками у ней за столом всегда водилось.
Мужики застопорились в сенях, снимали сапоги. Председатель и портянки смотал, с армии не любил носков.
– Клавдия, ну как дела?
Парторг привычно глянул в угол, с детства привык на иконы креститься, пока в комсомоле не отодрали. Нет у Клавдии икон в углу. Ага, фиг тебе, вошь партейная, злобно думала Клава, щас вот Ленина повешу, и крестись.
– Где сам-то?
– А чо надо? Мне скажите, а я подумаю, звать ли.
– Клавдия, он у тебе непьющий стал. Таких, сама знаешь, наперечет. В партию бы ему вступить. Вот мы рекомендуем.
– И чо, рекомендатели? – оглядела она презрительно. Пообтрепались мужики и лысоваты, Трофимыч, парторг, гнида мелкая, совсем ссутулился.
– Ну как «чо»? Вступить… – Председатель задумался. Действительно, чо? Как был Кузьмич на амбарах весовой, так и будет. Не в агрономы же ему?
– Ну и чо нам за это будет? – не унималась Клава.
– Ну путевки там, в райoн на совещанию.
– Ага, собутыльничка не хватает? По общагам в райoне трескать?
– Ты, Клава, не понимаешь. – Парторг повел бровями, нравилась ему Клава, по молодости свирепел, что она Кузьмича из армии ждала. Злорадствовал, когда слезная пьянчугу-мужа по оврагам искала. Но потом смягчило его, все ж она рядом, на виду, даже ревновать перестал. А теперь вот подумал хорошее сделать. Будет Кузьмич при партии, и ей перепадет.
– Клава, в санаторию съездишь, мужа уважать будут.
Клава заплакала:
– Трофимыч, не нужно мне уже ничего, ни уважения вашего, ни санатория. Не пьет мой, я и шелохнуться боюсь, чтоб снова не начал. Не тревожь нас. Лучше вон с сыном поговори. Сопьется Андрей, женить бы его. И в партию!
Кот Мотоцикл не вмешивался долго. Но не утерпел:
– Трофимыч, у него сейчас душевное равновесие образовалось. Ему со зверями лучше. Может, ты его к лошадям определишь? Или к коровам вместо партии?
– Какие вы все, заодно. Ишь, доброхот нашелся, мышно́й душитель.
Помямлили: подумайте тут с котом…
– Как же, подумаем! С Шариком посоветуемся и с гусем Еропкой, он у нас Троцкого читал, про партию вашу… Расскажет, если что…
Но не всегда председатель с глупостью какой лез.
Тут младшего своего сынка пригнал за Кузьмичом. Приди, мол, со своими. Срочно.
Кузьмич пошел, Шарик с Мотоциклом увязались за ним. Шарик вообще Кузьмича далеко одного не пускал – следил, чтоб не дерябнул где по слабости.
У сельсовета толпился народ, все старались заглянуть в щель большого деревянного ящика. Его только спустили с грузовика, слабый жалобный писк раздавался оттуда. Бабы испуганно крестились.
– Ишь ты, большая животная, может, она свирепая, ты погоди открывать, зоотехника дождемся.
Председатель отвел Кузьмича в сторонку: тут беда стряслась, индийские товарищи нашему колхозу прислали в подарок слона, за ржу, которую мы им отсыпали на голодуху в отсутствие революции. Учитель книжку принес, там написано, что слон у нас прижиться не может, холодно зимой. Возьми к себе, мы тебе и двор поширим, и хибарку слону построим. Куда девать животную? Ну да, неразумные они, индийские товарищи, но ведь от чистого сердца…
– А почему я? Меня Клава со свету сгниет, слона ей в дом! Еле к весне сена хватает, из-под Шарика последнее изымаем, коровку кормить, а ты – слона?
– Кузьмич, а куда его определить? Помрет ведь малец, загрызут, затопчут, а у тебя он как в раю будет. Ты ведь непьющий. Поможем соломкой.
Кот замахал лапами: не-е, никаких, я даже не знаю, кто это, но никаких, у нас гусь Еропка сердечник, у нас Клава нервная.
– А он мышей ест? – Шарик всегда компромиссничал.
– Не знаю, щас в учительной книге посмотрим.
Между тем ящик открыли, испуганный, вспотевший слоник осторожно выглянул и повел хоботом.
– Ах, какой большой, какой милый, какой-какой, – заверещали бабы.
– Это сколько же ему жрать полагается? – обмер Кузьмич.
– Поможем, райoн не откажет, субсидию найдем, не погуби, Кузьмич.
Слоник осторожно ступил на землю, хрюкнул хоботом, стараясь не смотреть вокруг.
У Шарика навернулись слезы: на моего первенца похож, такой же ушастенький, вспомнил он своего Тузика.
Кузьмич обалдел совсем, он знал, да и по телевизору видал, что слоны большие, но этот, малец еще совсем, а уже дотянуться бы за ушами почесать!
– Девочка он, слоник-то, Клавка же дочек хотела, вот ей дочка и будет, – передумал кот. – Бери, Кузьмич, субсидию получим!
Клава не верила своим глазам: боже ты мой милосердный, конец света, что ли? или сбрендила я совсем от жизни такой?
– На, Клава, подарочек тебе, от индийских, это, благодарных коммунистов. Как назовем-то?
Слоник наклонил голову, потерся хоботом о Клавину руку.
– Так он же по-нашему не понимает, – засуетилась Клава, – кушать хочешь?
Слоник вздохнул. Кушать – это они на всех языках понимают. Кузьмич принес сена, налил в бадейку воды.
– Еропка, смотри, кто пришел. Удочеряй крошку!
Гусь обомлел: это слон, что ли? Как зовут?
– Да не думали еще. Клава, ты решай.
– Дуся пусть будет, как бабка моя покойная.
– Ну что, Дуся, потопали в сарайку на ночь, да не боись, у нас тихо тут…
Беседы на кулинарные темы случались у них часто.
– Нет таких иностранцев, да и вообще таких людей нет, чтобы гусям с ними спокойно было, – предложил тему Еропка.
– Есть такие иностранцы! – хотел возразить Дуся, но по-русски говорил еще плохо, даже про съедобное, и не решился.
– Вон у него на исторической родине индусы мяса добровольно не едят, – сказал Кузьмич. Он теперь слонами интересовался и выписал журнал «Юный натуралист». – Не едят, но эксплуатируют трудящихся слонов, – устыдился он: в Дусиных глазах стояли слезы. Слоник хоть и прижился уже, и осмелел, но деликатно не докучал спасителям рассказами об ужасах своего индийского детства. Втайне он молился своему богу Ганеше, чтобы не было войны, а то съедят всем колхозом!
– Свои колхозные не щадят даже болотных. А уж домашнего закормить-зарезать для них праздник, – занудствовал Еропка. Он мог много рассказать, навидался, да и сам в опасностях побывал. Если б не Шарик с Мотоциклом, давно бы перышки на подушку, косточки на поглодку…
Что человеку в сытость, то животному мука смертная.
По деревне ходили страшные слухи, что должны приехать корейские коммунисты. А корейцы собак кушают. Шарик за детей боялся, да и самому не хотелось бы.
Или вот китайцы были, они птиц в жиру стоймя на дыбе жарят. Утка по-пекински называется. А птица на деревне худая, Еропка хоть и старый, но жирок нагулян. За печкой всю делегацию просидел.
– Хорошо тебе, – говорил Кузьмич коту, – тебя никто не съест. Не едят люди кошатину.
– Исторически всякое бывало, – заметил Еропка.
Клава не выносила такого: ой, меня щас стошнит от ваших разговоров! Еще про мышей в сметане давайте. Тьфу!
– Ага, как кушать, так не последняя, а как говорить или курке шею свернуть – так Кузьмича зови! Все, Клавдия, сама кур души́, не могу больше. Она ведь мне в глаз смотрит и мигает, – застонал Кузьмич. Кот понимающе вздохнул.
– Ишь, разошлись, – заволновался Шарик, – а я что буду есть? Брюкву? Мне на сметанке голодно, я не кот вам. И так косточек всего ничего даете, овсом разбавлено. А мышей мне вредно для желудка.
Все смущенно замолчали.
– Любовь и голод правят миром, – процитировал Еропка.
Любимого не будешь кушать, даже если он гусь.
Отец Варфоломей катился с пригорка. Прикрывал лицо руками, старался не осерчать и гусиного ангела не стукнуть сгоряча.
– Ну отстань, светоносный, отстань, душелюбый, не буду я больше, до гроба упощусь, скоромного в рот не возьму!
Ангел не унимался: знаем мы вас, коммуняк, все подколодные, все обидчики душей невинных, к тебе Еропкa на исповедь пришел, душу свою гусиную, как на алтарь, принес, а ты его тела возжелал укусить – и молотил его светящимся мечом.
Наконец Отец Варфоломей скатился в овраг и замер: смилуйся!
Ангел наклонился над ним.
– Убил, совсем убил, за гуся человека убил, а еще ангел! – трусливо выл Варфоломей.
– Убил не убил, – засмеялся ангел, – а в рай не пущу!