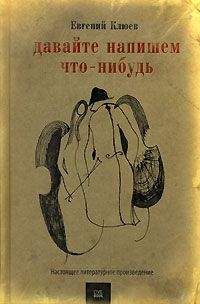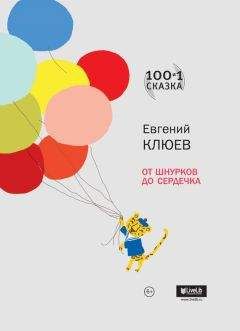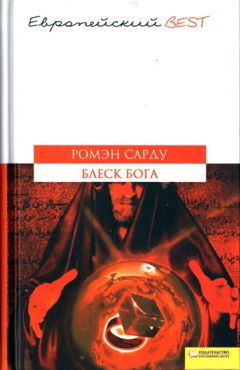Евгений Клюев - Translit
Вот и они, как та кляча, бездумно несут на себе судьбу мирозданья.
Они похожи на идиотов, считающих, что путешествовать – значит видеть мир своими глазами, в то время как путешествовать – значит дать миру увидеть… себя. Они похожи на тех, для кого покорить Эверест – значит устроить закусочную на его вершине.
Мимо их окон – сопровождаемый веселыми криками детей – проходит мир: со всеми своими слонами, со всеми своими огнедышащими драконами, но они, дожидаясь, пока в чайнике закипит вода, лишь изредка бросают рассеянный взгляд в окно.
А он – тот, кто говорит: пойдем! Его путь ведет в подземный мир, и он есть смерть твоей «жизни». От него предостерегают священники и правители. Он соблазнитель, он вор, но те, кого он обокрал, становятся богаче, чем были прежде. Его называют Логосом, называют Красноречивым, но кроме того – Диактором и Провозвестником.
Его слова слаще вина и горше смерти, но провозглашает Он волю богов. Он бегун, он поймает любого, но никому не поймать Его. Его шевелюра и борода настолько густы, что птицы могут вить в них гнезда, где-то там смеется рот и сверкают глаза, в которых отражаются его странствия.
Его сандалии крылаты, его посох увит змеями.
Он любил Афродиту, Персефону, Гекату, он любил и многих смертных женщин. У него шесть тысяч детей, которые будут править миром, когда вернется Золотой век{10}.
В голове уже несколько минут вертится «La signora Fortuna»… итальянская птичка, залетевшая из школьного прошлого.
Робертино Лоретти он долго пробыл. И в приличном уже, между прочим, возрасте: в четвертый класс ходил и в пятый. А сам Робертино Лоретти почти отгремел… отзвенел тогда. Пластинки-то еще крутили, да уже оплакивая хрустальный его голос: сломался, говорили – от жестокой капиталистической эксплуатации сломался.
И не было в мире больше Робертино – и никого взамен не было. Он не то чтобы решил стать взамен, а просто… как же теперь, совсем без Робертино?
У соседей Булановых большая пластинка была, у него же – только маленькая, четыре песни всего, и он четыре эти песни уже со слуха по-итальянски (казалось ему) в тетрадь записал и пел с утра до ночи. Потом попросился к Булановым – и там у них еще девятью песнями обзавелся, некоторые – «Аве Мария», например, – очень трудные были. Он Булановым всю пластинку исцарапал, потому что останавливал после каждой строчки и записывал эту строчку в тетрадь, а дальше на то же место иглой попасть старался, чтобы следующую, значит, строку записать – и так продолжалось неделю… Потом тишайшие Булановы взревели и сказали, что хватит, но он закончил уже – и отныне выходил в сад и пел девять песен Робертино в том порядке, как они на пластинке Булановых были, потом еще четыре – с маленькой пластинки. И казалось ему, что здорово получается… что вот-вот уже скоро датчанин Вольмер-Сёренсен, проходя случайно мимо их дома, должен услышать знакомые песни, постучать в ворота и попросить его начать записываться.
Но не шел почему-то Вольмер-Сёренсен, странное дело. Если бы шел – не мог бы не услышать, как он в саду на весь привокзальный район «О мое солнце» распевает… и другое всякое: «Вернись в Сорренто», «Душу и сердце», «Уточку и мак», даже «Аве Марию», хоть она и трудная…
Мама, не сомневавшаяся в том, что петь – обязательно, спросила, обязательно ли петь так громко… соседи, сказала, жалуются, но он объяснил ей: тише – никак нельзя, поскольку и так надежда на то, что Вольмер-Сёренсен по их улице проходить будет, маленькая, а если Вольмер-Сёренсен еще и не услышит его голоса, тогда вообще все пропало. Мама, вроде, поняла.
Он выходил петь как на работу: вернется из школы, быстро поест чего-нибудь – и сразу петь, в сад. Иногда и дома пел, если погода совсем плохая, но тогда он форточку открывал, чтобы слышно было. А сколько пел… да часов пять каждый день, пока родители не придут: с двух, значит, до семи. Причем без остановки: споет одну песню – и сразу другую. А когда все тринадцать споет, начинает снова – с первой.
Ему не то чтобы казалось, что он Робертино… – ему казалось, что он как Робертино. И что пришло время. Единственная вещь, его беспокоившая, были слова по-итальянски: ему не верилось, что он их точно записал… торопился – боялся, как бы пластинку не отняли. Не зря, получилось, боялся: отняли.
Но однажды, когда по радио опять Робертино запустили, «Маму», к Восьмому марта, он услышал, что слова не очень похожи на те, которые он записал… И это его, значит, беспокоило: слова итальянские должны правильные быть, а то перед датчанином Вольмером-Сёренсеном стыдно. Но большую пластинку Робертино не достать было, так что – делать нечего, приходилось петь неправильно… по крайней мере, девять песен, слава Богу, что не все тринадцать (четыре-то, с собственной пластинки, он не торопясь записывал).
Часто, когда он пел, приходил соседский дедушка Буланов – спросить, не устал ли он еще, и он отвечал, что не устал и что сколько угодно так петь может. Дедушка Буланов вздыхал и уходил, а он продолжал петь.
Его начали дразнить: кто-то из одноклассников узнал о концертах в саду, позвал других… вставали у ворот, слушали, хихикали. Потом хихикать перестали: вдруг стало страшно… сколько же он еще так будет? Каждый ведь день… с ума, что ли, правда сошел? Стоит и орет в огороде. Именно в таком виде – «орет» – и доходили до него отчеты о его пении: стоит, значит, и орет. Почему сразу «орет», это же песни!
Когда все открылось, он решил, что терять больше нечего: надо выйти на улицу и петь, и не просто на свою улицу – там без шансов… надо в город, в центр. Стать на углу Советской и… странно, теперь он не помнил названия улицы, пересекавшей Советскую, – стать и запеть, он так решил. А дальше – будь что будет, не Вольмер-Сёренсен, так другой кто… безразлично, лишь бы услышали и обмерли, все ведь просто делается!
Он стал на углу Советской и – не смог запеть: мимо ходили люди, ехали трамваи, машины… все было серьезно, по-настоящему, большой взрослый мир, как запоешь? Так вот прямо – ни с того, ни сего: суль маре люччика лястро дордженте пьяче да ленда просперельвенте вените лелибе баркетта миа санта лючия санта лючия о дольче наполи о соль беато о ве соридоре воллеиль креато ту сей лимперо делармония санта лючия санта лючия?
И он испугался… даже весь взмок. Одно дело – в саду, за забором, немножко для себя, немножко для соседей, немножко на-кого-бог-пошлет (была такая игра в самом раннем детстве: набрать пригоршню песку и подбросить высоко вверх – на кого Бог пошлет!), и совсем другое – тут… все сразу станут смотреть, начнут шарахаться или, наоборот, близко подходить, спрашивать: мальчик, ты что? А он же ответить не может, ему петь надо, как тогда? И придет милиция, запретит петь… ты не поешь, ты орешь.
В общем, постоял сколько-то и домой, пешком, через весь город. Пару раз, правда, еще приходил – надеялся, что сможет, но не смог. А потом зима началась – и он однажды, когда замерз, в здание местного клуба зашел, греться. Клуб «Октябрь», значит… он и посейчас есть.
В клубе был огромный вестибюль с очень высоким потолком – и ни души.
Во всяком случае, здесь, в вестибюле, ни души.
И тогда он запел «О соле мио»… сначала так, совсем для себя, тихонько, а потом уже – на полную мощность. Он спел все тринадцать песен – и никто не пришел. Правда, на девятой песне просеменила от входной двери к лестнице на второй этаж резвая бабуля какая-то, бросила на него взгляд, сказала: поешь? ну пой – и исчезла на втором этаже.
А голос здесь совсем по-другому звучал, чем в саду, прямо как на пластинке звучал, отдаваясь под потолком. Очень по-настоящему получалось, как надо. Ему даже не верилось, что это его голос… чистый такой, звонкий. Начинало казаться, что он Робертино теперь и есть. Как раз тогда он и вписал в метрику «Роберт», подумав, что, если «Робертино» впишет, то выдаст себя.
Через несколько дней сверху, со второго этажа, вышел на его пение какой-то дядя – и сердце прямо упало: Вольмер-Сёренсен. Он сделал вид, что дядю не видит… продолжал петь. Дядя постоял минуты три, а потом, когда все-таки глаза поднять пришлось, дядя сказал дружелюбно:
– Так это ты сюда петь приходишь? А то мы все думаем, кто ж там у нас внизу поет…
И ушел. И ничего не сказал больше. И турне не предложил. И не спросил, как его зовут, не то бы он сказал: «Робертино».
А еще через некоторое время вышла пожилая и очень приятная на вид женщина, не спеша спустилась к нему вниз по лестнице, взяла его за руку и повела к двери. На улицу вывела и сказала: ты, мальчик, тут лучше пой, перед клубом, больше народу услышит. И, оставив его на ступеньках, ушла за дверь – и ключ в двери повернула, было слышно.
На улице он петь, конечно, не смог, хоть в этот раз и попробовал: глаза закрыл, чтобы никого не видеть, и спел три слова: «Кэ белла коза…», но дальше не пошло.
Он возвращался домой и плакал. Не от обиды, нет – от разочарования… от разочарования в себе: что не мог на улице петь. Никакой, значит, он не Робертино: Робертино – мог! Мог и пел на улице, никого не стесняясь, и поэтому Робертино был послан Вольмер-Сёренсен. А ему Вольмер-Сёренсен послан не будет никогда: тем, кто стесняется, вольмеров-сёренсенов не посылают.