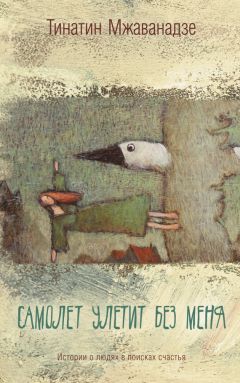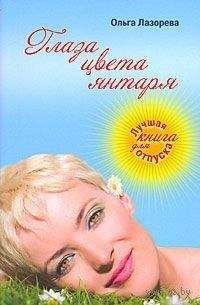Анна Берсенева - Героиня второго плана
Что-то кончилось, и что-то должно было начаться заново – это трепетало на самом острие ее жизни.
Серафима села к письменному столу, открыла лежащую на нем тетрадь, верхнюю в стопке. Это оказался конспект по марксизму-ленинизму. Каждый четверг в библиотеку приходил доцент, молодой и мрачный, читал лекции, их надо было конспектировать… Серафиму сердила пустая трата времени, хотя она была, наверное, последней из сотрудников, кто имел необходимость ценить каждую свою минуту…
«О чем я думаю, о какой ерунде!.. – мелькнуло у нее в голове. – Сейчас он придет, и все переменится. Я его люблю. Он это понимает. Но не говорит, любит ли меня. Почему? Не знаю».
Наконец она решилась задать себе этот вопрос, хотя бы мысленно.
Серафиме действительно было непонятно, как относится к ней Немировский. Кто она для него – приятная собеседница? Это было бы странно и обидно, но обиды она не чувствовала, потому что знала, что это не так. Но как?
Неизвестность окатила ее, как холодная вода, непонимание свело руки.
Она взглянула на часы. Пятнадцать минут давно прошли, и полчаса уже прошло, пока она бессмысленно сидела у стола, перелистывала страницы бессмысленного конспекта со случайными рисунками на полях – улица, угол дома, потом почему-то озеро или, может быть, море…
«Он не пришел. Но почему? Обидеться на меня он не мог, между нами не произошло ничего такого, что могло бы показаться ему обидным. Но что тогда?.. А вдруг с ним что-нибудь случилось?»
Предположение было не из разумных. Что могло случиться со взрослым человеком в обычном коммунальном коридоре? Не велосипед же на него со стены упал.
Но все-таки Серафима встревожилась. Она встала, прошла от одной стены до другой. Покрутила серебряную круглую цепочку у себя на шее. Цепочку папа подарил маме в день их свадьбы. Кольцо, подаренное тогда же, осталось у умершей мамы на руке, а цепочку Серафима надевала теперь к вечернему платью в торжественных случаях, как вот сегодня в Большой театр. Она завязывалась особым образом, в самом деле как шнур, на концах которого висели две большие жемчужины, черная и белая.
«Может быть, зайти к нему? Нет, это будет неловко. А что, собственно, неловкого? Зайти, спросить… Что спросить? Да просто спросить, не случилось ли что-нибудь. Какая глупая нерешительность! И всегда так, всю жизнь так. Не живу, а только раздумываю, как следовало бы жить».
Этот последний довод вдруг предстал в ее сознании во всей его значительности. Невозможно больше плыть по течению, невозможно! Как он сказал – жизнь не глина, из которой ты можешь что-то лепить по своему усмотрению? Да, наверное. Но самой быть глиной, из которой жизнь бесконечно лепит какую-то унылую бесформенную фигуру, – не хуже ли это?
Серафима решительно направилась к двери.
Соседи давно улеглись, и в коридоре горела одна лишь тусклая лампочка. Старшая по квартире, Шура Сипягина, следила, чтобы в одиннадцать вечера непременно оставалось только это отвратительное дежурное освещение.
Дверь в комнату Леонида Семеновича – в лучшую в квартире комнату с арочным окном – была приоткрыта. Серафима издалека заметила тонкую полоску света и замедлила шаг в нескольких метрах от этой двери.
Но голос, доносящийся оттуда, она все-таки успела расслышать. И слова, этим голосом произнесенные, тоже. И, услышав, не могла уже себя заставить повернуться и уйти, бежать прочь, прочь от этого голоса, от этих слов…
– Так и знала, так сердце и чуяло! Хоть доктор, хоть лапотник – мужик есть мужик! Обрюхатил – и в сторону!
В Таисьином голосе звенели слезы. Кажется, настоящие, не притворные.
«А хоть бы и притворные, не все ли равно?» – холодея, подумала Серафима.
– Почему ты мне сразу не сказала?
Слова Немировского прозвучали так, словно это были не слова, а камни.
– Так боялась же, гос-споди! Сперва не поняла, чего это со мной, а потом так забоялась, аж сердце затряслось. И зачем я к вам тогда пристала, зачем?! Подумала, с одного раза ничего не будет… Дура я, дура неприкаянная, устала одна на белом свете маяться, прислонюся, думаю, к приличному человеку-то, а оно вон как вышло… И чего мне теперь делать, а? Вот-вот пузо на нос полезет.
Что ответил на это Немировский, Серафима уже не слышала. В глазах у нее потемнело, в ушах застучали кровяные молоточки, и, понимая, что еще секунда, и сознание ее помутится, она шагнула назад, еще, еще – и побежала прочь по коридору.
Глава 7
– Гугл вывозит своих разработчиков из Москвы. И не только Гугл. Ты не считаешь, что тебе тоже пора об этом подумать?
Лицо Энтони было мрачным. Или просто казалось таким в легком искажении айпада.
– Считаю, Тони, – ответил Арсений.
– Тогда пришли мне свои соображения – куда, когда, кого. Потребуются время и средства, нужен точный план. – Энтони помолчал, потом спросил: – Арсен, могли мы с тобой представить, что нам придется строить такие планы?
В голосе друга звенело растерянное недоумение. Арсений никогда не слышал у него таких интонаций, хотя знал Энтони уже… да, тридцать пять лет он его знал. Ровно тридцать пять лет назад они познакомились в летнем лагере под Прагой. Тогда их связало общее увлечение, потом оно стало общим занятием, потом – общим делом… И вот теперь оно требует от них общего поступка для спасения того, чем они вместе занимались всю жизнь.
– Все пришлю завтра, Тони, – сказал Арсений. – Что толку откладывать? Мы не страусы.
– Страусы голову в песок не прячут. – Энтони улыбнулся. – Кто выдумал про них эту глупость? Ну, до завтра.
Лицо Энтони исчезло с экрана.
Как соединились вдруг в одной точке все линии его жизни? Работа, семья, страна… Как-то одновременно все сошло на нет. И что он делал неправильно, почему все так получилось?
Арсений поморщился. Он ненавидел размышления, не ведущие к содержательным действиям. Следовало сосредоточиться на том, что они обсудили с Тони: что именно следует предпринять, чтобы пережить трудные времена.
«Если бы они были просто трудными! – подумал он, поднимаясь из-за стола. – Знал бы я тогда, что делать».
Тупиковыми они были, эти времена, вот какими. Смысл из них исчез. А как жить, когда не знаешь, зачем начинается каждый твой новый день?
Сегодняшний день, к счастью, был окончен. Но к сожалению, только в рабочей его составляющей. Арсений предпочел бы, чтобы и во всякой другой тоже, но ему предстояло еще заехать к Марине. Это было тягостно, но неизбежно.
Он вышел из своего кабинета – точнее, из своего прозрачного стакана – в общий зал. Когда снимал это помещение, то предполагал, что организует работу «опен спейс» – без перегородок. Но потом столы и стеллажи как-то сами собой расставились таким образом, что помещение превратилось в подобие лабиринта с сумасшедшинкой. Впрочем, ребят это не беспокоило – они мало обращали внимания на все, что находилось за пределами экранов, – и настаивать на своих дизайнерских идеях Арсений не стал.
Он подошел к Андрею с Томасом, они еще сидели у себя за столами и перебрасывались яростными репликами – спорили, попытался отправить их по домам, не встретил понимания – кажется, они даже не очень поняли, чего он от них хочет, попросил проинформировать его, чем закончится их руготня из-за нового приложения, получил довольно нахальное заверение, что он узнает обо всем первым, и вышел вон, как князь Гвидон из бочки.
Томасу уехать на год-другой будет несложно, он эстонец, а Андрею потребуется рабочая виза в Европу, если он решит, что переезжать надо именно в Европу, а не в США или в Австралию, и куда именно в Европу, кстати? Тоже вопрос. И с чего он взял, что переезжать придется всего на год-другой, что об этом свидетельствует? Ровно ничего. Сплошная неопределенность впереди, от этого и тяжесть на душе. И от этого тоже – так будет точнее.
Об этом Арсений думал, пока шел к машине. Сверкала незамерзшая река, дрожали в черной воде огни, светилась на другом берегу высотка на Котельнической набережной. Он вспомнил, как Майя смотрела на все это – во-он оттуда, из окна ресторана «В небе», – как говорила, что ее почему-то всегда завораживают огни на водной поверхности, в этом, наверное, есть что-то первобытное. И как она смотрела на него длинными темными глазами – не понятная ему ни в чем, притягивающая этой своей непонятностью и ею же держащая на расстоянии…
Арсений рассердился на себя за эти мысли. Он не мог дать ей того, что она ожидала, что ожидают все женщины такого типа – с юности придумывающие себе идеального мужчину, потом раз за разом переживающие горькое разочарование от того, что их идеал невоплотим в однообразной обыденности, требующие любви и только любви, а что она для них такое, эта любовь, если они никогда ее не видели и не знали?..
Он понял в ней все это, проверил свое понимание и не стал продолжать отношения. Может, это надо было сделать как-нибудь иначе, с объяснениями, но и то уже хорошо, что он сделал это вовремя, пока иллюзии не укрепились в ней.