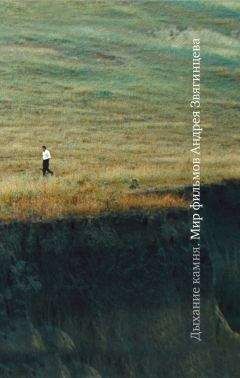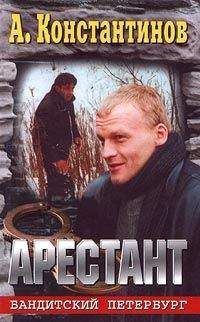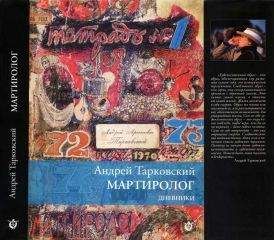Андрей Смирнов - Лопухи и лебеда
– Он хуже грудного! Я его стульями загораживаю, он и то умудряется падать!
– Это же не кровать, – засмеялся летчик. – Мы же тут специально наклон имеем, чтобы не загреметь. Повернется – а его все равно к стенке поведет.
– Почему это?
– Как почему? – удивился он. – Гравитация…
Мама порозовела слегка.
– Вы будете отвечать, – сказала она, сдаваясь.
– А по маленькой для знакомства? – обрадовался летчик, достал из чемодана яблоко и протянул мне. – А, товарищи женщины?
Тетка кисло усмехнулась:
– Позвольте мне раздеться.
Ей почему-то не понравилось, что все так удачно разрешилось. Раздевшись, она потушила свет.
Летчик так огорчился, что мне стало жаль его. Он долго топтался в темноте, стягивая сапоги. Вдруг он крякнул, решительно налил стакан коньяку, выпил и прыгнул на полку.
Ночью я слышу грохот.
Кто-то тормошит меня, кричит, плачет. В тусклом синем свете я вижу две склоненные ко мне головы.
– Я так и знала! Уверена была!
Летчик быстро ощупывает мою голову, бока, руки:
– Где больно?
– Да не больно ни капельки!
Мама недоверчиво следит за тем, как я поднимаюсь с пола.
– Господи, зачем я только вас послушала! С ним же нельзя быть спокойной ни минуты, это не ребенок, это какой-то кошмар!
– Мама, – шепчу я сердито, – ты же голая!
Они с летчиком пугливо косятся друг на друга. На нем только белые подштанники, а мама в ночной рубашке.
Она с визгом кидается под одеяло, а летчик – к дверям. Купе наше сотрясается от хохота.
Наутро не только в нашем, но и в соседних вагонах уже знают, что я упал. У нас полно народу, сесть негде, и мне уже порядком надоело торчать в коридоре.
– Нет, вы себе представьте! – рассказывает мама очередному гостю. – Буквально сантиметр в сторону – и он бы ударился головой об стол! Это надо умудриться!
– Ну, хватит, – ворчу я.
Пузатый дядька в украинской вышитой рубашке осматривает место происшествия, прикидывает высоту.
– То, видать, как дернуло покрепче, ты и нырнул, – рассуждает он.
– Так он же не с этой полки упал, а вон с той, – возражают ему. – Мы же вон куда едем!
– А мы в Курске паровоз меняли, – вспоминает проводница. – Это в котором часу было?
Летчик стеснительно пожимает плечами. Он с утра не проронил ни слова.
– Это было ровно без двадцати три, – хладнокровно сообщает соседка. – Я сразу же на часы посмотрела.
– Точно! Как раз мы паровоз меняли, он нас назад подавал.
– Он и нырнул! – заливается дядька. – Без парашюта!
За окном летит нескончаемый южный день, дымный, солнечный, мелькают белые мазанки, крытые золотистой соломой, встает громада, черная среди желто-белесой степи, и поворачивается, пока мы ее огибаем.
– Ой, что это? – спрашивает девушка.
– Это терриконы, – объясняю я.
Человек в кителе смеется:
– А что такое терриконы?
Я презрительно пожимаю плечами:
– Сваливают в кучу пустую породу, вот и получается такая гора.
– С ним лучше не связываться, – улыбается мама. – Где он это все берет – хоть убей, не знаю!
– Перестань, мам!
– А что я такого сказала? – обижается она.
На станциях нас караулят бабки с ведрами и корзинами. Они бросаются к дверям и окнам вагонов и певучими голосами предлагают свой товар, а мы мечемся между ними.
– Мама, это кукуруза?
Торговка торопливо разворачивает марлю, натирает солью дымящийся початок. Аппетитный пар щекочет мне ноздри.
– Покушай, хлопчик…
Мама удивляется:
– Ты никогда не ел кукурузы?
Загорелая краснолицая молодуха чертит босой ногой в пыли.
– Почем вишня?
– Десять карбованцев.
– Кило? – недоверчиво спрашивает мама.
Девушка пугается:
– Та ведро…
И, дурея от дразнящего изобилия и непривычно дешевых цен, мы тащим с собой в вагон горячую вареную картошку и малосольные огурцы, вздутые, все в складочках, огромные помидоры, мелкие, каменные, необыкновенно сладкие груши и ведро вишни, которое нам нипочем не съесть.
– …А в Уфе у Лешки последние штанишки украли…
Мама рассказывает, не в силах оторваться от помидора, жадно ловит его сахарный багровый сок, чтоб не пропало ни капли.
– Мы там прямо на пристани две недели валялись. У него единственные штаны были. Я постирала, сушиться повесила, а их увели… Он у меня там совсем помирал. Врач посмотрел и говорит: вы силы зря не тратьте, вы еще молодая, живы будете – еще нарожаете, а ему все равно не выжить…
– Тиф, что ли?
– Не дай бог! – пугается мама. – Понос голодный.
– Да-а… – тянет толстяк. – Вот тогда бы эту обжираловку!
И самодовольно смеется и обводит всех взглядом – как хорошо, что все мы живы!
– Мы в сорок втором в Копейске жили, муж мой приехал на два дня, их там переформировывали… – вступает проводница. – Я картошечки достала. Муж говорит: у меня поллитра есть, сходи обменяй на что-нибудь. Ему, бедненькому, конечно, выпить охота, ну, он увидел, на кого мы похожи, и не выдержал. Водка тогда, сами знаете, дороже всех денег была. Взяла я эту поллитровку и пошла с дочкой на базар. Гляжу – инвалид безногий бутылку масла продает. Предлагает меняться. А я, дура, думаю – ведь что ни купишь, все враз съедим, а масла надолго хватит. Поменялась я с этим инвалидом, чтоб ему ни дна ни покрышки, прихожу домой, а в бутылке только стенки маслом обмазаны и сверху чуточку налито, так смотришь – вроде масло. А там – вода… Господи, как я ревела!
Она, кажется, и сейчас готова заплакать.
А слушатели кивают и улыбаются задумчиво, у каждого своя похожая история плывет перед глазами, осеняя лица особой, сладкотомительной грустью военных воспоминаний. В их улыбках – и жалость к себе, и превосходство над самими собой тогдашними, прежними, времен войны…
– Эти инвалиды – это какое-то бедствие, – оживляется вдруг наша соседка. – Я живу на Дорогомиловской, так у нас на рынке до сих пор проходу нет от этих инвалидов. Пьяные вечно, дерутся, ругаются! Мы даже в Моссовет писали!
– А у нас во дворе контуженый жену убил, – говорю я. – Он ее из пистолета застрелил, потому что она с ним жить не хотела.
– Какой ужас! – говорит тетка. – И главное, что на них нет никакой управы. Милиция сама их боится.
Проводница вздыхает в дверях:
– Народ от войны лютый стал.
– Да войны уже десять лет как нет, а он – все лютый!
Летчик как-то странно щурится.
– Инвалиды буянят… – говорит он, заерзав, и неприязненно улыбается. – Интересно знать, где бы вы все были, кабы не эти инвалиды?
Воцаряется неловкая тишина.
– Я же совсем не в этом смысле… – заикается тетка, оглядываясь за поддержкой.
Летчик спрашивает у мамы:
– Извиняюсь, ваш муж на фронте был?
– Всю войну, – вздыхает мама. – Ранен два раза…
– Руки-ноги целы?
– Слава богу, целы.
Он отворачивается к окну и бормочет:
– Ну, счастье ваше…
Я караулю вещи на узком перроне. Толпа быстро растекается во мраке. В горячем, мягком воздухе, насыщенном влагой, струятся пряные запахи, и женщины кричат гортанными голосами.
Мама приходит в сопровождении высокой, прямой как доска старухи во всем черном. Мы берем чемодан и идем за ней.
Редкие фонари горят в кронах деревьев, бросая лучик света на темную зелень. Прямо на тротуарах сидят на стульях смуглые люди, разговаривают и смеются, разглядывая прохожих без всякого стеснения.
Мы сворачиваем в переулок. Шум и голоса улицы сразу удаляются, смолкают. Старуха легко шагает впереди, то и дело пропадая во тьме, и мы с трудом поспеваем за ней, торопимся, перебираемся через насыпь железной дороги, карабкаемся в гору. Наконец она впускает нас в калитку и зажигает лампочку над входом.
В домике стоит чужой, кислый запах.
Мы распахиваем оконце, и откуда-то снизу доносится мерный влажный шорох осыпающихся камней.
Мама растерянно смотрит на меня:
– Пойдем на море?
– Где море? – допытываюсь я у старухи. – Море, море?
Понять, что она говорит, невозможно. Держась за руки, мы ощупью спускаемся по тропинке.
Над нашими головами – черное бездонное небо с яркими звездами, похожими на крупинки соли. Невидимые волны накатывают на берег с глухим нарастающим гулом, и что-то мерцает в их сумрачной глубине, перемигиваются блеклые огоньки.
Мама зябко вздрагивает, и дрожь ее передается мне. Я беру ее руку.
– Как-то вдруг одиноко, – говорит она.
Сквозь строй обалдевших малышей, бабушек и мам с огромными букетами и цветами в горшках я проталкиваюсь к табличке “7Б”, которую держит Виктория Борисовна, молоденькая химичка, и сгоряча оказываюсь в толпе десятиклассниц.
Взрослые, недоступные, с короткими модными прическами вместо кос, они снисходительно косятся в мою сторону, и пот катит с меня градом.
Пинок в спину означает, что я добрался до своих.
Я ору бессмысленно, хлопаю по рукам, плечам, получаю в ответ одобряющие затрещины и толчки.