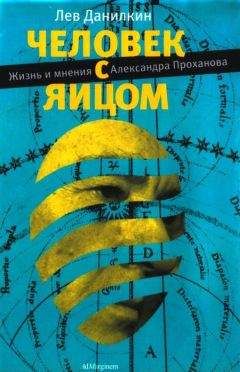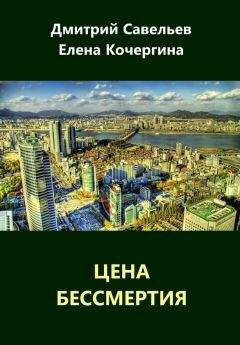Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
– Да я так сопьюсь…
– А ты не больше чем по одной раскупоривай.
Куда?
У «Луны» кучковались возбуждённые юнцы, не протолкнуться, за окнами второго этажа уже прыгали по потолку тени.
– Танцы нон-стоп?
– Сегодня воскресенье.
Ресторан гостиницы «Рига» был, судя по табличке, «на спецобслуживании». Тёплое местечко нашлось только в ресторане над центральным универмагом, большом и неуютном, по-вокзальному шумном, куда их поднял ветхий, с рассохшимися панелями красного дерева лифт-долгожитель; чернели щели между панелями, в углах. «В этом лифте, наверное, ещё сам Ульманис покатался», – сказала Лида. На неё все смотрели, кто-то, возможно, её узнавал, как-никак звезда республиканского помоста. О, она была очень хороша в своём блестящем венце волос! А Германтову всё тревожнее делалось, она была рядом с ним, взгляды и касания искрили, он хотел, безумно хотел, чтобы она была с ним, а время-то истекало. Что-то пили и ели среди перепивавшейся, разгалдевшейся публики; под низким потолком с экономной лепнинкой вокруг крюка, на котором была подвешена полусфера хрустальной люстрочки, плавал папиросный дым. Тут ещё – над дальним банкетным столом – притянула внимание Германтова крупная седовласая голова. Голова вместе с внушительным торсом в сером костюме солидно приподнялась для произнесения тоста, туда-сюда, как на шарнире, повернулась на сжатой твёрдым белым воротничком шее, одаривая всех гостей за длинным столом доброжелательным взглядом, и Германтов узнал Шумского, сразу узнал. Ну и что удивительного? Прощальный банкет после встречи ленинградского и латвийского киноклубов. И сразу вспомнилась ему Катя, щекочуще-горячо шепчущая ему в ухо свои вопросы, порождавшиеся говорениями Шумского перед показом очередного фильма, и что-то в нём сжалось, он попытался представить её, тонущую; Катя тонула, а он не мог прийти ей на помощь.
– О чём ты, Юра? – спросила Лида, наклоняясь к нему; волосы её нежным блеском коснулись его щеки.
Вздохнул.
– О том, что нам пора заказывать кофе.
Вскоре они прощались у струившейся голубым неоном латвийской – с коллажем из башен и шпилей с флюгерами – витринки «Аэрофлота».
Подкатил автобус.
– Ты большой оригинал, Юра! Я думала, что ты прилетел в такую холодину с гвоздиками, чтобы сказать что-то важное, а…
Обнялись; губы её были прохладными.
– Я позвоню, – сказал Германтов, чтобы хоть что-то ещё сказать.
– А я напишу, – сказала Лида.
Когда тронулся автобус, подумал: «Мы внутренне схожи с ней, душевно близки, поэтому, наверное, и отталкиваемся».
Она махала рукой в узорной шерстяной варежке, пока силуэт её не растворила метель.
Он не позвонил и не получил от неё письма.
А через несколько лет по толчку какому-то – кажется, в тот самый день, когда услышал от Веры, что она любит конфеты с ликёром под названием «Лакомка», – достал из кухонного буфетика продолговатую коробочку с дефицитными в Советском Союзе конфетами «Прозит»: коробочка так все эти годы и простояла на верхней полке за чашками, у задней стенки.
Опасливо сдвинул фольгу на пузатой бутылочке – шоколадную округлость покрывала седая плесень.
И вновь стало ему тревожно.
И вновь тогда же подумал он о Джорджоне.
И удивился: Лида, заплесневелый шоколад и – Джорджоне?
Что ещё за ассоциация, взятая с потолка?
Ну какая, какая связь…
Его опутывали внешне неотличимые, эфемерно-шелковистые, но прочные, как дратва, связи любви и искусства?
Так.
Венеция, «Гроза».
Аретино уверял, что главное в картине проявляется при долгом многократном её созерцании. С Аретино не поспоришь.
Но что же главное, что?
Всё было привычно, обыденно, да, он словно возращался в картинную галерею, как в гостиницу, где привык останавливаться; многократно, как и завещал Аретино, он, ритуально постояв на мосту над Большим каналом, медленно поднимался затем по широкой лестнице Венецианской академии изящных искусств в светлейший зал номер 5, чтобы созерцать, созерцать, созерцать. Он созерцал маленький холст, почти что живописную миниатюру.
Хм, Муратов увидел в «Грозе» «неуверенность первых шагов живописца», посчитал её плодом «безвыходного раздумья». А музыкальность кисти Джорджоне и вовсе свёл к «ещё нерешительной и первоначальной живописности».
Как бы не так! – эмоционально возражал Германтов; он созерцал, наверное, самый загадочный в истории живописи холст.
Созерцал-медитировал.
Приглушённая синевато-зелёная гамма. Тусклое освещение. Пейзаж-мгновение, озарённый вспышкой молнии.
Но что же особенного, загадочного? Так, всего-то «пейзажик» – по словам Маркантонио Микиэля.
Женщина с ребёнком, сидящая на пригорке, рядом с кустом, и на другом берегу ручья – пастух с посохом… Тёмная арка, обрубки колонн; намёк на античные руины? А поодаль, меж двумя высокими деревьями на переднем плане, слева и справа, – мост, за мостом – высвеченные молнией стены, башни.
Что это?
Разгадывателями-трактовщиками написаны тысячи книг. И самые стоящие из них Германтов, конечно, читал и…
Сплошные многоточия, когда читал, мельтешили в глазах. А слова будто бы лишались смысла: сочетание разных миров – реального и воображённого, разных времён – настоящего и прошлого, персонажи картины – пастух и женщина, кормящая ребёнка, – разобщены, они-то и пребывают в разных временах и поэтому не видят друг друга, ну а главный персонаж картины – гроза; расхожая трактовка.
Ближе, ещё ближе.
Кисть, как кажется поначалу, вообще не выделяет детали; участки холста, залитые жидкой краской, чередуются с пастозными мазками, и вдруг – присмотревшись – листва, графически чётко, до веточки, до листочка с зубчиками, выписанная, как плетения кружева; сомнительно, чтобы какие-то сверхидеи могли просвечивать сквозь эти простые краски и формы. Но чем-то раззадоренный глаз уже пустился в долгое путешествие по аллегории, которая обосновалась на бытовых просторах.
Вскоре он понял, что на отдельной картине не стоило замыкаться; отобранных им картин-аллегорий ведь было целых четыре.
Так, «Джорджоне и Хичкок»… Он листал отлично сформулированную и тонко выписанную книгу свою, которую начинал когда-то – черновики, конечно, не сохранились – с престранного анализа. Да, сперва он анализировал будто бы впотьмах – каким-то рваным, каким-то нервно-плывучим был начальный анализ четырёх картин, а сколько сомнений и тупиковых мыслей потом, когда, напутешествовавшись по городам и музеям, путешествовал он по четырём файлам, смущали его невозмутимый компьютер? «Где, в какой запредельности, – подумал, – могли бы храниться теперь виртуальные аналоги измордованных чернильной правкой бумажных черновиков?» И как же книга обрела убедительность? Её разрозненные идеи непроизвольно искали единения, долго, почти два десятилетия, настаивались; как хорошее вино? А всё ведь в непридуманной истории случайностей и психологических рифмовок было шито белыми нитками – тонкими и шелковистыми, как летучие паутинки.
Так паутинки – связи?
Эфемерные, но такие прочные связи; опять-таки – прочные, как дратва.
Пожалуй, образ этой свободной книги, зарождаясь, заставлял вспомнить об абстрактных композициях Хуана Миро – несколько свободно разбросанных по холсту ярчайших пятен, соединённых тонкими линиями.
Можно было бы вспомнить и об изящнейших акварелях Пауля Клее: несколько цветных влажно растекающихся клякс – допустим, четыре кляксы, – связанных лишь волосяными, рвущимися кое-где линиями.
Но какая же, какая связь при этом…
Вернее – какие связи; это были не только связи между любовью и искусством – связей ведь было много и самых разных по своим свойствам и назначениям: тонюсеньких, натягивающихся и провисающих, прерывистых и вовсе вдруг исчезающих из поля зрения, но всё равно при этом присутствующих.
Вскоре после Венеции он мог очутиться в Дрездене.
Staatliche kunstsammlungen. Вычурный декоративный бассейн в партерном дворике Цвингера, прочие бирюльки саксонского барокко. Толпы туристов, подвозимые к Цвингеру на внушительных туристских автобусах, устремлялись лавинообразно, но вот уже и организованно вполне, к Рафаэлю, к «Сикстинской мадонне», а Германтов медленно шёл к своей цели по пустоватым залам; бархатные банкетки стояли вдоль стен, на одну из них, вот на эту хотя бы, чудом сохранившуюся в разбомбленном Цвингере после атаки американских летающих крепостей, в ботинках залезал Достоевский… А вот уже и Antonello Messina, да, женоподобный белёсый его Святой Себастиан в белых плавках на фоне белёсой, с вялыми арками слева и справа от мягких бёдер, архитектуры, проколотый до незаметности экономно изображёнными стрелами.