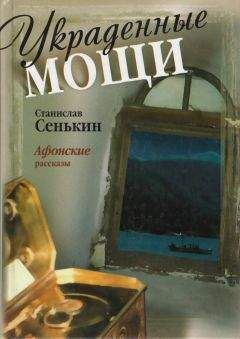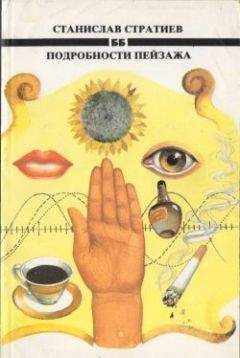Станислав Сенькин - История блудного сына, рассказанная им самим
– Э, парниша! Ты не отчаивайся, держись бодрячком. И эти два года дали тебе отрицательный опыт, который ты сможешь передать другим…
– Да какой опыт? У меня уже веняки пропадают. – Я положил руки в карманы. – Не дай Бог никому такого опыта.
Долговязый смотрел на меня, не мигая. Потом насмешливо ответил, словно признавая меня слабаком.
– Ну и что! Я уже пах открыл, а ты знаешь: открыть пах – это всё равно, как открыть крышку собственного гроба. Я такие минуты пережил, брат ты мой, что вспоминать страшно. На стенку бросался бывало. – Он указал на храм пальцем. – Но мне здесь не помогли. И тебе не помогут. Помяни мои слова. Тут ты сам по себе, а у нас – в Живой церкви – мы все вместе…
Я опять злобно уставился на долговязого, а он так же не отводил взгляд.
– И что, ты думаешь, я стану брошюрки раздавать или – как ты – на приводе работать?
Долговязый искренне засмеялся.
– Да на каком приводе?! Я сюда пришёл сорокоуст по бабушке заказать, она-то православная была. А на выходе Анатолия встретил. Ходили с ним в храм год назад – он единственный, кто меня более-менее поддерживал, когда я хотел соскочить. Но как я ушёл, он знать меня не хочет. А ведь человек-то хороший! Жаль мне приятеля терять, но видно Господь его ожесточил, как фараона египетского… – Долговязый оглядел меня с ног до головы. – На приводе – не на приводе, но на служении ты бы мог пригодиться. Выносил бы дух вместе с телом.
Я не стал спрашивать, что это значит.
– Так ты соскочил? Сильно небось ломало? Чем перебивался, водку пил?
Долговязый покачал головой и вновь расплылся в улыбке.
– На сухую, брат. Веришь-нет, святым помазанием отошло всё. Даже не кумарило и тяги нет. А врачи говорят, что в случае, если соскочишь, депрессия как минимум полгода. Ан нет. Бог меня исцелил – поэтому, не вдаваясь в теологические споры, скажу, что для меня это самый главный аргумент истинности нашей церкви. Я был мёртв, а теперь ожил. Понимаешь?
– Да понимаю, – буркнул я.
– Так что если хочешь избавиться от торча, приходи к нам в Живую церковь. Доезжаешь до «Болтов», а там пять минут ходьбы…
– Да не, брат. Я православный. И в отличии от тебя – это именно вера моих отцов. Но удачи тебе. Рад, что ты выкарабкался. – Я кивнул и стал подыматься в храм. Уже перед дверьми, я услышал, как долговязый окликнул меня: «Ты всё-таки приходи, посмотри. Может быть, Бог просветит твое сердце и ты избавишься». – Я поднял правую руку, не оборачиваясь, и вошёл в притвор.
В храме царил обычный византийский полумрак, чтец дочитывал шестой час. Я подошел к правому приделу, где исповедовал отец Димитрий. Я посмотрел на него и наши глаза встретились. И его словно перекосило. Теперь, спустя долгое время, я не могу сказать, что мне это не почудилось – на кумарах вообще развиваются разной степени тяжести параноидальные состояния и кажется, что даже самые близкие тебе люди замышляют против тебя нечто страшное.
Но тогда в его взгляде я прочитал неподдельное презрение и усталось, а также желание поскорее закончить сей спектакль, который называется литургией, и пойти домой, где можно заниматься своими делами, почитать Бродского и помечтать, как хорошо в стране американской жить. Этот взгляд словно пробился ко мне в душу и залил её смущением и отвращением. Я подумал, что не смогу дать обет в присутствии отца Димитрия. По крайней мере, не сейчас…
Постояв минуту, другую я вышел из храма и увидел вдалеке фигуру долговязого. Я побежал за ним и нагнал его у трамвайной остановки.
– Андрей, – я протянул руку.
– Михаил, – он тепло пожал её и опять победно улыбнулся.
– Может зайдём в кафе, чаю попьём? Тут есть одна закусочная неподалёку.
– Давай. – От Михаила я уже не ожидал ничего плохого в принципе, как нельзя было ожидать этого от Алёши Карамазова.
Мы зашли в кафе, заказали чаю и по пицце и тут меня прорвало. Это можно было назвать одной из лучших, искренних моих исповедей. Я рассказал Мише про свои бандитские движения, про наркотики, «мутки», вспомнил, как умерла Юля, и ещё множество суровых новелл, наполненных правдой улиц, которые держит в своей памяти любой наркоман. Имена «отъехавших», барыг, студентов, проституток стали оживлять в памяти грандиозный спектакль под названием «дневник наркомана». Даты, квартиры, памятники на кладбище, опознания в морге и избиения в ОВД, – всё это я выложил Михаилу на духу, не утаивая ничего. А он просто слушал, оказавшись хорошим собеседником, потому что знал, есть моменты, когда человека нельзя перебивать.
Когда я выговорился, он покачал головой:
– Так значит, ты решил дать Богу обещание не употреблять героин?
Мне было несколько трудно отвечать, потому что я действовал не по плану, повинуясь больше интуиции.
– Да. Я хотел сделать это сегодня. Для этого и пришел сегодня. Ты уже знаешь о моём отце, о том, как он служил и почему его отправили за штат. – Я на минуту замолчал, думая стоит ли продолжать говорить это сектанту, поскольку отец никогда не верил, что они способны на разумный диалог. Но здесь был больше не диалог православного и сектанта, а двух наркоманов, причём сектант-то как раз был на правильном пути и любые аргументы за Православие из моих уст были бы сейчас просто неуместны. Я продолжил.
– Перед смертью отцу выписали морфий, но он отказался от него, зная, что я болен наркоманией. Поэтому я и выбрал Три Святителя тем храмом, где я произнесу свой обет. – Я замолчал. – Но ты прав насчёт того, что здесь меня могут только выслушать – никто меня не поймёт. Наркоман – это звучит для обывателя, как… преступник, как подонок и просто невменяемая сволочь. Для простого человека это звучит хуже, чем алкоголик.
Долговязый Михаил посмотрел мне в глаза.
– И что же теперь? Ты не станешь этого делать – давать обет?
Я выдержал взгляд, но зачем-то взялся за шею.
– Стану! Но мне сейчас нужно было выговориться.
Он кивнул.
– Тому, кто может тебя понять. Типа исповедаться?
– Ну да. Конечно, у нас считается, что в Таинстве Исповеди действует благодать Святаго Духа, но ведь не менее важно простое человеческое понимание…
Долговязый опять кивнул и, несколько вызывающе, посмотрел мне в глаза.
– Так ты не пойдешь к нам, в Живую церковь? У нас там уже несколько завязавших. Вместе будем держаться. В отличие от православных, харизматы давно занимаются проблемой наркомании, ещё со времени сексуальной революции в Америке. Ты бы мог к нам присоединиться. – Долговязый вдруг нахмурился. – Или ты… – он ухмыльнулся, – или ты, как Анатолий – мой бывший сомолитвенник – считаешь, что мы там все в прелести и умрём смертью вечной?
Я немного подумал прежде, чем отвечать. Здесь предстояло отвечать тонко, чтобы не обидеть такого хорошего собеседника, но и не предать веру. Я подумал, как бы на это ответил отец, который никогда не выказывал неприязни к сектантам, как например к тем же коммунистам.
– Я не богослов, Михаил, и не благочестивый человек, поэтому не делю людей на православных и не православных. Я говорил, что работаю в казино, на малышевскую группировку, поэтому не делю мир на грешников и праведников. Было время, когда я делил его на пацанов и на лохов. Теперь и это прошло…
Возникла долгая пауза, которую прервал Михаил.
– И что? Теперь для тебя все равны? Ты никак не разделяешь людей?.. – Он улыбнулся, поняв, что я не второй Анатолий и не буду грозить ему вечными муками. – … Хотя бы на мужчин и женщин.
Я улыбнулся в ответ.
– Ещё как разделяю! Я наркоман и мир делится для меня на употребляющих наркотики и на неупотребляющих. Но теперь это моё видение усложнилось. Познакомившись с тобой я открыл для себя третью категорию людей – завязавших.
Михаил допил свой чай и посмотрел на меня с любопытством.
– А что, меня нельзя отнести к неупотребляющим?
– Нельзя. Ты сам знаешь, «кто попробовал слезу мака, будет плакать всю жизнь». Я не знаю, как там насчёт плача, но употребление героина изменяет человека навсегда и это изменение останется с ним до самой смерти. Это как пуля в груди, – выжить, быть может, ты и выживешь, но шрам останется.
– Что ж! – долговязый скрестил руки на груди. – И как ты думаешь, – это полезное изменение или вредное?
– Знаешь, отец мне рассказал как-то одну историю, когда я хотел научиться играть на гитаре.
Один человек играл в студенческие годы в ансамбле и даже был панком. А потом, после тысячелетия крещения Руси, покаялся, принял монашество на Валааме и его быстро рукоположили в священники. Но ему было очень трудно стоять у престола – на него нападала необъяснимая хандра и тряслись руки, когда он резал агнец и переносил чашу с жертвенника на престол во время Херувимской. И тогда он написал одному известному старцу письмо с просьбой помолиться. Старец этот ответил, если мне не изменяет память, так: «Тебе не нужно было становиться священником. Человеку, который занимался рок-музыкой, невозможно стать хорошим пастырем. Бесы будут тревожить тебя каждый раз, как ты будешь служить литургию». Я что имею ввиду; если даже мы с тобой завяжем, мы уже не станем праведниками в полном смысле этого слова. Мы навсегда останемся инвалидами духовной войны. Будучи в плену у дьявола, мы вырвались… – Я остановился и посмотрел на долговязого. – Точнее, ты вырвался из плена греховного, но часть твоей души всё равно, как бы ты не старался, осталась у него в плену. Неужели тебе даже не снится, как ты ставишься?