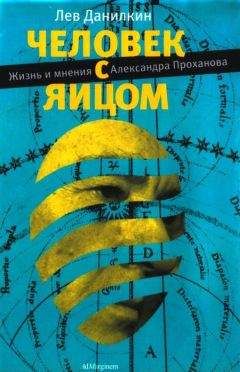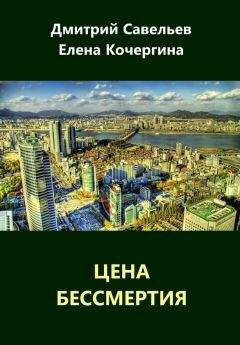Александр Товбин - Германтов и унижение Палладио
Утонула Катя.
И он понял, что только её любил?
И поэтому, именно поэтому, у него ничего толком не сложилось с Лидой, а затем, – с Верой?
Странная месть самому себе?
Ему вспомнилось загадочное чувство облегчение, которое он испытал, когда… тогда, в адлерском аэропорту, он и помыслить не мог бы, что не прощается на время, а порывает невольно с Лидой, однако интуиция видела дальше, чем подслеповатый рассудок: какой-то приятно-прохладный ветерок свободы вдруг, пугая и радуя, как бы щекоча душу, пронёсся внутри. Как хорошо, что изобретён самолёт, что последовательные в непреложности своей аэропортовские предотлётные процедуры узаконивают расставания, – не надо водевильно выпрыгивать в окно, хотя вот оно, открытое окно, рядом, – конечно, не надо, однако ему потом несколько раз почему-то снилось, как он позорно выпрыгивал в ресторанное, обрамлённое цветастыми занавесями окно и под крики «стой», «стой» и свистки догонявшей его вооружённой охраны, под улюлюканья зевак, накачивавшихся пивом на крыше ресторана, в открытом кафе, неловко бежал с отяжелевшим от булыжника чемоданом по лётному полю к самолёту, не зная какой же из множества одинаковых самолётов, которые ёлочкой выстроились на расчерченном асфальте на фоне чернильных гор, нужен ему; нет, вовсе не надо было ему выпрыгивать в окно, можно было вполне респектабельно допить дрянное кисленькое винцо в ресторане «Сокол», и расплатиться, и зарегистрироваться, и сдать багаж, и – после дежурного поцелуя, с грустной миной – подняться по трапу, чтобы улететь от возлюбленной, такой желанной возлюбленной. А стоило ли вообще влюбляться, чтобы улететь-таки от желанной женщины навсегда, как если бы была она опостылевшей? – какие-то вредоносные дуновения касаются в самый ответственный момент наших душ…
Да, почему-то он, когда разлетелись они, испытал облегчение.
Правда, на миг всего.
Облегчение… как изнанка вовсе ненаигранной грусти?
И – как смутное обещание чего-то важного?
И в самом деле, – разве утраты в тигле судьбы, пусть и изредка, но не переплавлялись в приобретения?
Хотя бы – в эти вот твёрдые отчуждённые брикеты из бессчётных слов?
А чувство облегчение он испытал, поскольку намекнула ему судьба, что обретает он высокую свободу для написания книги.
На нижней полке стеллажа, крайняя книга в ряду, у булыжника, – «Джорджоне и Хичкок»; до чего же сложно вызревала она, как прихотливо писалась; и смог ли бы он её написать, если бы не повстречался с Лидой?
Не смог бы написать, не смог: он смиренно признавался себе в факте творческого иждивенчества.
Нас всех подстерегает случай…
Если бы он на минуту раньше или на минуту позже с подаренным морем булыжником вылез из прибойной пены, они бы так и не встретились?
Да, случай подстерегает, грозит, но бывает же такое, – вынашивалась книга долго и сложно, а все, – теперь кажется, что все! – случайности, непредсказуемо компануя жизненные обстоятельства, благоволили; благоволили не к нему, – к книге.
Будет ли и сейчас Случай столь же милостив?
Ему вспомнились, – не могли не вспомниться! – строчки Ходасевича, которые среди прочих строчек глухо прочёл на последней читке стихов Витя Кривулин: «нет ничего прекрасней и привольней, чем навсегда с возлюблённой расстаться», да ещё и какой-то адресный намёк, не правда ли? – «по-новому тогда перед тобою дворцы венецианские предстанут».
Хм-м, дворцы, а – вилла?
Неужели он расставался навсегда с Лидой, чтобы…
А что, собственно, в этом нового, – разве ты, ЮМ, не знал про потерю надежды и – рождение песни? Любовный спазм и потеря женщины обладают своими химизмами, которые, однако, сливаются в катализатор творческого сознания.
Любовь и расставание, судя по томам лирики, намертво связаны, а книга их, любви и расставания, плод?
А я, как-никак написавший книгу, кто? Ты, ЮМ, прозорливейший из прозорливых, но не вздумай задирать нос, ты всего лишь биологический самописец.
Простенькие размышления оборвались.
Подошёл к стеллажу, взял книгу, – «Джорджоне и Хичкок»; затем в который раз за последние дни достал из шкафчика стеллажа большой и плотный бежевый конверт с фотографиями.
Серенькая, мутненькая, – мальчик-с-пальчик-с-лопаткой, в снегах: что же ждёт его, что?
Сепиевая, стандартно отглянцованная, стандартно, с зубчиками, обрезанная, – Лида. Стройная, загорелая, тонкий браслет на узком запястье, белое короткое платье в косую полоску; пальма слева, а справа, за кустом азалии, катер, неподвижно мотающийся в прибое.
Но почему, почему такой тревогой задышала сейчас эта курортная фотография? И почему с такой гнетущей тоской и тревогой ему вспоминалась сегодня, именно – сегодня, с раннего утра, Лида?
Предрассветный сумрак давил на психику?
И почему-то спрашивала она про жизнь после жизни…
А какими долгими и туманно-солнечными выдались ему погони по пересечённой местности стран-континетов за секретами неведомой джорджониевской тревоги.
Да. Погони растянулись на много лет.
Открыл книгу: «Символы Венеции бликуют, как её камни. Вот и Джорджоне, – Zorzo, как любовно звали его друзья, – который был олицетворённым художественным символом Серенессимы на вековом рубеже процветавших искусств её, впитал своими дивно-загадочными холстами, как мнится, все визуальные таинства волшебного города; уже почти пятьсот лет Джорджоне интригует нас своей неуловимой, будто б беззаконной, поэтикой».
Взял лупу, лежавшую на карте Венето, навёл на Лидино лицо: приблизились её губы, светлые глаза, обведённые блеском, как божественным мазком, волосы.
Губы, глаза и…
Они такие выразительные сейчас.
Ну и что с того, что обрели они новую выразительность через столько лет, дальше-то что?
Лида стояла под той же пальмой, но была уже какой-то другой, будто старая фотография изменилась.
У умерших менялись лица на фотографиях; известный феномен, он и сам это неоднократно чувствовал, и о посмертных изменениях на фото писали многие; если так странно изменилась она на фото, то… – жива ли Лида?
Многократно рассматривал эту фотографию, а именно сегодня она изменилась, именно сегодня, и значит…
И сразу за этой щемящей мыслью-подсказкой, – ну почему, почему? кем был, где прятался вездесуще-возвышенный всезнайка-суфлёр? – вспомнилась ему «Весна в Фиальте», лёгкая и свежая, как морской бриз, а-а-а, вот почему: ему тотчас же вспомнилось, что в выдуманной набоковской Фиальте тоже бухал сперва прибой, а потом плохо всё кончилось.
Как бы то ни было, Германтов захотел накануне отлёта, накануне долгожданной встречи с виллой Барбаро, повторить по памяти проделанный когда-то свой путь к Джорджоне, повторить, отталкиваясь от того самого мгновения, когда Лида спрыгнула с гагринской набережной в его объятия: повторить путь со всеми его, – возможно, поучительными, способными помочь написанию «Унижения Палладио»? – зигзагами и плутаниями, памятными зацепками для глаз и мыслей; повторить – именно сейчас.
По правде сказать, луврскому казусу в атрибуции «Сельского концерта» Германтов придавал излишнее значение, а при обсуждении его – проявлял и вовсе излишнюю запальчивость; да и был ли сам казус? – многие искусствоведы, – и не только искусствоведы, авторитет которых непререкаемым был для Лувра, – издавна в скучноватых баталиях об авторстве спорных полотен, – Джорджоне или Тициан? – не пряча глаз, принимали сторону Тициана.
Ещё бы! – принимали сторону сильного.
Плодовитый долгожитель-Тициан явно превосходил живописной весомостью своего рано умершего учителя, ценимого патрициями-венецианцами тонкого живописца и музыканта, оставившего нам в наследство уйму загадок, однако так и не успевшего за короткую свою жизнь набрать всемирный, как у Тициана, вес популярности, – в экспозициях мировых музеев, которым повезло заполучить тициановские полотна, Тициан заслуженно выступал, как в роли великого художника, так и… – в известном смысле, – свадебного генерала; в Лувре, где, ранжирование великих мастеров в коммерческих интересах музея доведено было по мнению Германтова до совершенства; конечно же, публика со всего Света прежде всего валом валила на шедевр Леонардо, но и к Тициану тоже луврские стратеги-кураторы относились подобострастно, как к одному из главных музейных достояний… – не зря, совсем не зря, Леонардо и Тициан, – заметим, по мнению Германтова, «ложный»(!) Тициан, – вывешены были в одном зале, в центре его, правда, на разных, безусловно-лицевой и условно-оборотной, поверхностях одной стенки.
И уже хотя бы по этой причине, – отвлечёмся от сугубо-научных, точнее, псевдонаучных, сложностей атрибуции, – появление сомнительной таблички с именем Тициана под «Сельским концертом» было вполне объяснимо.