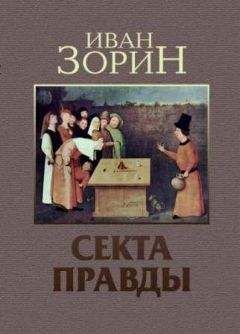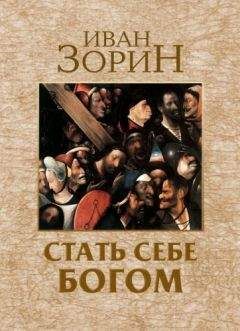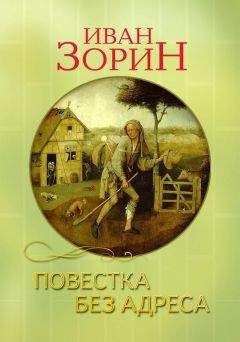Иван Зорин - Аватара клоуна
Он проснулся, когда солнце яичным желтком размазалось по стенам. Он был один.
Элен! Ты не могла уйти, не разбудив меня. Это не в твоих правилах, да и слишком рано, ты же любишь поспать, особенно с дороги. Или ночью тебя увезли, чтобы промыть желудок? О господи, да заверните этот проклятый кран! Нет-нет, безумие, этого не могло произойти! Ночью ты раскинула руки – что я ещё тогда подумал о них? – поверх простыни, а я, раздавив на кухне окурок, словно его пеплом собирался посыпать голову, пришёл подглядеть твои сны. А до этого была Катя, оторванная вешалка, разговор ни о чём. Ну конечно, ты ушла под утро, я блуждал в похмельных грёзах, и немудрено, что пропустил. Но давай же возвращайся: из магазина, от парикмахера, шляпника. Видишь, мне плохо! И прости, я каюсь, каюсь, кап-кап-кап, не своди меня с ума! Довольно того, что валяюсь, как неотправленное письмо. Вернись в наше уютное гнёздышко, я брошу пить, не мучай же меня! Но вот повернулся ключ, сейчас ты войдёшь, и я рывком отброшу одеяло, растерянность, вздор минувшего, и брошусь к тебе как прежде: «Элен!»
Она стояла в прихожей, сосредоточенно прилаживая пальто на табурет, потом тряхнула блестевшими волосами («На улице солнечно, – подумал он, – как она ухитрилась принести дождь?») и произнесла вместо приветствия: «Оторвалась вешалка». И, задвигая ногой саквояж, скороговоркой: «Лучше приезжать в ночь – а то день разбит».
Полдень, полночь… Я перепутал? Не может быть, тебя выдаёт притворное спокойствие – ты всё подстроила, моё нежное чудовище, и мне хочется крикнуть: не лги, не лги! – я не психопат, ты уже побывала здесь ночью, приходила с дождём и оторванной вешалкой. Прекрати жестокий розыгрыш – меня не довести до сумасшествия, хотя я знаю – ты будешь отпираться, на нашей войне пленных не берут. Я представляю, как, торжествуя, ты позвонишь матери: «План сработал, он на грани помешательства». «Это не белая горячка! – мысленно кричу я. – Все детали сходятся, как в мозаике, но одной всё же не хватает!» Однако вопль застрял внутри. Я вообразил, как невропат в пижаме, размахивая руками, объясняет жене, что хотел её убить. Я представил, с каким артистическим недоумением ты вскинешь бровь и произнесёшь тем елейно проникновенным тоном, от которого стынет кровь – его ты бережёшь специально для меня: «Ты слишком много работаешь, милый, надо отдохнуть». И уже через минуту, всё с тем же участливым выражением: «Как насчёт психиатра?» Нет, Элен, тебе не одержать победы, ты не будешь торжествовать, уж лучше безумие!
Медленно, словно крадучись, она прошла на кухню, поправляя на ходу наглухо задрапированное платье, и, равнодушно скользнув по смятым окуркам, зелёной бутылке, пускающей «зайчика», остановилась на чёрном, сохнувшем на столе пятне: «С каких это пор, дорогой, ты пьёшь кофе из двух чашек?»
Библия увядших маргариток
В кафе сидели у окна.
– Ненавижу это!
Лысоватый мужчина отодвинул бумажную тарелку, обвёл взглядом лакированный интерьер. Сидевший напротив усмехнулся:
– Щи дома вку-уснее?
Он слегка заикался, рыжие волосы забивала седина.
– Ну, если их лаптем! – оскалился третий, такой толстый, что занимал половину стола.
Лысый, махнув рукой, отвернулся.
Было душно, собиралась гроза. В углу, на высокой треноге, громоздился телевизор. Показывали «Преступление и наказание».
– Такое только по молодости и можно, – опять встрепенулся лысый, указывая на экран. – Убить, а потом каяться… – Достав платок, он громко высморкался. – Я с юности ниже травы был, всем дорогу уступал: «Ах, тысяча извинений, вы мне, кажется, на ногу наступили!» А теперь бы раздавил гадину – и радовался!
Он сжал кулак, из которого фигой торчал кончик платка.
– В на-ашем возрасте крыша у всех е-едет, – не поднимая головы, хмыкнул рыжий.
– Но в разные стороны, – фыркнул толстяк. Однако лысый гнул своё:
– Помню, в школе били, налетят кодлой, издеваются… А мать: «Будь умнее, не связывайся!» И в институте лучшим был. А толку? Место получил самое гадкое, нищенское. Ишачил за всех, а меня ещё жизни учили!
Откинувшись, он стал раскачиваться на стуле.
– Зарплату прибавляли редко и всё с идиотской присказкой: птица по зёрнышку клюёт!
Он надулся, как кот, и, наклонившись, стал собирать в горку хлебные крошки. Соседи продолжали сосредоточенно есть, время от времени вытирая коркой сальные губы.
– Что-о это вдруг тебя разо-обрало? – уткнувшись в тарелку, буркнул рыжий.
– Не вдруг! – вспыхнул лысый. – Давно чувствую, попользовали, да бросили!
– На том свете зачтётся, – вставил толстяк. Лысый пропустил мимо.
– И где справедливость? – стучал он по столу ногтем. – Я и мухи в жизни не обидел, а в итоге… – Расставив пятерню, стал загибать пальцы: – Денег не нажил, жену увели, дети отвернулись. – Его лицо залила краска. – И правильно, чего с меня взять…
– Так ты, значит, из-за жены? – оживился толстяк, поправляя очки с выпуклыми линзами, которые делали его глаза, как у рыбы.
– Да не в жене дело! Хотя и она, уходя, бросила: «Сам виноват!» Что не воровал, как её новый? – Он повысил голос. – Что никого пальцем не тронул?
На них стали оборачиваться. Склонив набок головы, в пластмассовом стакане блёкли маргаритки. За соседним столиком расположилась молодая пара.
– А я не наелась, – засмеялась девушка.
– Ну, ты даёшь! – восхищённо улыбнулся парень. – Уплетаешь, будто на собственных поминках!
За столиком у окна поморщились.
– А у ме-еня всё было, – надкусил гамбургер рыжий. – Своими руками сча-астье сколачивал! – Он покосился на лысого. – Только дураки по кру-упице собирают. Жену, когда по магазинам ездила, шофёр ка-араулил. А сбежала с моим приятелем. Эстрадный пе-евец, известности захотела.
– Обычная история, – вынес приговор толстяк.
Кафе гудело, как уличный перекрёсток. Входящие тащили за собой тени, которые, казалось, жирели на глазах, плющась под низко висевшими люстрами. «Что же ты наделал? – плакала Соня Мармеладова на плече у Раскольникова. – Как же теперь жить будешь?»
– Туфта какая-то! – не удержался лысый.
Разговор не клеился. Долго ковыряли зубочистками, разглядывали зал.
– Готовят здесь на скорую руку, а нам спешить некуда, – ухмыльнулся толстяк, расстёгивая воротник. – Повторим? Когда ещё случай подвернётся?
Его соседям сделалось не по себе. Они вдруг припомнили всю свою жизнь, ощутив её время, как воду в бассейне, где потрогали каждую каплю.
– А я свои годы в семье провёл, – с неожиданной серьёзностью признался толстяк. – Как в тюрьме. После свадьбы в жене всё раздражать стало. Сразу сбежать не решился, а потом дети пошли. Так она ещё упрекала! Ты, говорит, плохой отец! А почему я должен быть хорошим? Меня что, готовили? Или от природы? Когда в гости уходила, поверите ли, радовался, как мальчишка, оставшийся дома один.
Он приподнял очки и, не снимая, протёр стёкла двумя пальцами.
– Так и прожил, что не жил.
За окном сгустились сумерки. Полетели первые капли.
– У вас хоть де-ети остались, – тихо произнёс рыжий. – За-авидую…
Толстяк скомкал салфетку.
– Нашёл чему! Выросли зубастые, думают, в деньгах счастье – такие не пропадут. Но и счастливы не будут.
– Теперь даже нищие на деньгах помешаны, – поддержал разговор лысый. – А всё из-за таких!
Выставив палец, он едва не проткнул рыжего.
– Да я-то зде-есь при чём? – передёрнул тот плечами. – Разве человека сде-елаешь хуже, чем он есть?
– Нечего на людей пенять! На себя посмотри! Скольких пустил по миру?
– Да у-уймите же его! – взвизгнул рыжий. – Прицепился, как репей!
Толстяк затрясся от смеха:
– Ну что вы, честное слово! Как дети!
Он снял очки, но глаза под ними оказались такими же рыбьими.
– А помнишь, – бесстрастно обратился он к рыжему, – как привёл домой любовницу и устроил перед ней спектакль? С жиру бесился, а решил показать, как тебе плохо, и жене сцену закатил?
Рыжий покраснел до корней волос:
– Но я не хотел, та-ак получилось! Толстяк посмотрел рыбьими глазами.
– Скольких вожу, – вздохнул он, – все безвинные. Рыжий опустил глаза.
– Он и через нас, доведётся, перешагнёт, – добивал лысый. – Меня бы совесть замучила!
– Ле-ечиться на-адо, – вяло огрызнулся рыжий.
– Поздновато, однако, лечиться, – всплеснул руками толстяк, точно судья, разводящий боксёров.
И оба тотчас осеклись, ощутив своё время заключённым в могильных датах.
Грянул гром. Телевизор сделали громче – стало слышно, как сознаётся в убийстве Раскольников.
– А это он зря, – указав на экран подбородком, перекрикивал раскаты толстяк. – Господь и так видит, а люди всё равно не оценят.
– Вот и я о том же, – покрылся пятнами лысый, – такое разве по молодости можно… Только прописи нам читать не надо – не дети!
– Помилуйте, какие прописи? У вас теперь свой букварь… – Толстяк накрыл ладонью пластмассовый стакан. – Пока маргаритки не увяли, его прочитать надо.