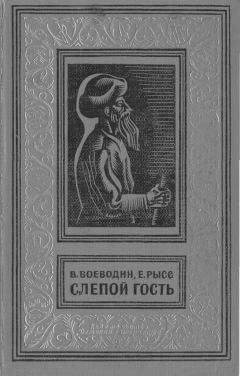Игорь Воеводин - Последний властитель Крыма (сборник)
Генерал посмотрел на нее больными глазами – он все хуже спал в последнее время, хотя и находился пока еще в хорошей форме. Но вот мухи, мухи, Господи, какая гадость, засрали Россию эти мухи…
Нина Николаевна неслышно встала из-за стола и, подойдя сзади к мужу, осторожно и нежно стала массировать ему шею и голову. Побагровевшее лицо генерала, стянутое маской отдаленной, только зарождающейся, но неотвратимой боли, слегка разгладилось.
– Спасибо, Ниночка, – уронил он чуть позже. – Это все нервы, нервы… «Боже мой, – томился между тем генерал, – это она… опять она, ужасная, неотвратимая мигрень, при которой болит полголовы и невозможно думать…»
Внезапно в сенях послышался шум, кудахтанье попавшей кому-то под ноги квочки, гром ведра, чертыханье, и перед генералом появилась небольшая, ладная фигурка его адъютанта Ла Форе. «Барон Александр Де Ла Форе», – как рисуясь, чуть грассируя, представлялся его адъютант вполне созревшим под южным небом девицам в городках и местечках, и у тех сладко замирали сердца: петербуржец, аристократ и душка военный!
На сей раз дамский угодник был бледен, взъярен, и глаза горели угольями на его едва еще знакомом с бритвой лице.
– Ваше Высокопревосх… Разрешите? – спросил он, роняя руку в перчатке от околыша корниловской, черной с белым кантом фуражки.
– Что вы, корнет, как в оперетке нечистая сила, всегда не вовремя являетесь? – недовольно спросил Слащов. Но в его надтреснутом голосе чувствовалось, что он любил этого юношу, и Нина Николаевна, погладив корнета своими лучистыми глазами, показала, что все нормально и можно говорить, генерал ворчит по привычке.
– Яков Александрович, вы видели, кто от командующего прибыл? – спросил Ла Форе.
– Ну, видел… Этот… как его… Товарищ министра, что ли… Из Освага[2]. Как его, дьявола… А! Пейдар. Он еще с Гучковым в Думе шелупонился.
– Ну, так и есть! Ваше Высокопревосх… Господин генерал! Помните, я вам рассказывал, как моя матушка с сестрой Нестерович из Комитета солдат, бежавших из плена, офицеров на Дон переправляли? Да они же и вам помогли, Яков Александрович!
Генерал показал, что помнит.
– А помните, я рассказывал, когда генерал Алексеев срочно просил денег для эвакуации офицеров из Одессы и Севастополя перед погромами? Они к Гучкову ходили, на коленях стояли, да тот денег не дал, помните?
Генерал смотрел на адъютанта не шевелясь, и донец в углу замер, сжимая в руках сапог, стянутый с трубы самовара.
– Так вот, эта гнида с Гучковым сидела, икру с осетрами жрала, а им отказали, и восемьсот офицеров тогда в одном Севастополе матросня разорвала, и брата моего первым, помните? Да я рассказывал Вам, Ваше Превосходительство, он мичманом был и погнал с корабля эту Островскую, большевичку из Совдепа, что к бунту призывала! Ни копейки с Гучковым они не дали, а он сейчас с жиру лопается, Ваше Превосходительство!
Слащов смотрел на своего адъютанта в упор, и боль в правой стороне черепа разгоралась, пульсируя, и генерал чувствовал, что безумие, черное, душное, накатывает на него, он уже не слышал корнета, в его голове живьем вставали рассказы очевидцев и сухие строки отчета деникинской контрразведки о событиях в Крыму.
Евпатория, 18 января 1918 года, Крым
Кованая крышка сдвинулась и поехала в сторону, и чья-то рожа, появившись в просвете, скомандовала:
– А ну, выходь…
Гидрокрейсер «Румыния» покачивался на морской зыби, чуть поодаль – транспорт «Трувор».
Офицеры выходили поодиночке, разминая суставы и жадно глотая свежий морской воздух. На обоих судах к казням приступили одновременно. Светило солнце, и толпа родственников, жен и детей, столпившихся на пристани, могла видеть все. И видела. Но их отчаяние, их мольбы о милосердии только веселили матросов.
– Пожалте, господа, – издеваясь, пригласил безносый и колченогий матросишка. – Кто первый желат?
Штаб-ротмистр Новацкий шагнул вперед. Не затем, чтобы подать пример остальным – сильно израненный, он истекал кровью, и просто не было больше сил терпеть эту боль.
Островская, худенькая и стриженая дамочка, в недавнем прошлом из курсисток, а ныне комиссар и анархистка, с белыми глазами и узкими, как лезвия, губами, улыбнулась.
– Нельзя так, товарищи, – слукавила она, обращаясь к толпе матросов. – Ранен человек, надо перевязать. Знаете, сколько зрителей на берегу? Потом обвинят нас в бесчеловечности…
С Новацкого сорвали форму и отодрали бинты, причем он трижды терял от боли сознание, и трижды его отливали водой.
Вой донесся с берега, где бился в руках у матери его 12-летний сын, и она закрывала ему глаза ладонью, не в силах отвернуться сама.
Штаб-ротмистра перевязали, и матросы поволокли его в трюм, к топке. Ее пламя бушевало, разбрасывая вокруг адские отблески. Новацкий глянул в огонь и мгновенно стал седым. Островская, срывая голос, заголосила, запричитала, завизжала, закликушествовала:
– Именем революции… Славные соколы, альбатросы анархии, покончим с прошлым, и пусть огонь примет эту жертву!
Среди матросов поднялся ропот, но безносый и второй, в драном тельнике, схватили Новацкого, пригнули голову и швырнули внутрь. Ужас сковал окружающих. Пронзительно закричал, заверещал человек в топке, но за ним тут же захлопнули заслонку – чтобы не выскочил…
Островская перевела дух. В ней все пело, как после оргазма, и она предвкушала новые и новые приливы удовлетворения.
– Давай! – махнула она, возвращаясь на верхнюю палубу, и следующая казнь началась.
Но действо разнилось на «Труворе» и «Румынии».
На гидрокрейсере обнаженную жертву после издевательств обычно пристреливали, прежде чем кинуть в море. Некоторых бросали и живыми, связав руки и ноги и оттянув к ним голову. Вся семья полковника Сеславина в полном составе стояла на коленях на пирсе и молила о пощаде. Его и пощадили, он не сразу пошел ко дну, и с борта какой-то матрос добил полковника выстрелом в голову.
На «Труворе» отрезали жертве губы, уши, нос и гениталии, иногда руки, и бросали в воду живыми. За двое суток казней на обоих судах погибли 300 человек. Каждого мучили минут пятнадцать – двадцать…
10 сентября 1919 года, ставка генерала Слащова под Бердичевом
Генерал медленно раскрыл глаза. Был еще полдень, но над селением как будто потемнело, небо хмурилось, обещая спасительный дождь.
– Вы сейчас, корнет, немедленно отправитесь с донесением к генералу Бабиеву. Донесение чрезвычайной важности. И никаких разговоров! – крикнул генерал, видя, что корнет собирается взмолиться.
– Ждать донесения в контрразведке. Василий, проводи! – крикнул генерал донцу. Тот, поймав взгляд Слащова, кивнул и вышел козырнув.
– Полковника Тихого ко мне! – крикнул ему вдогонку Слащов, и через минуту порог хаты переступил чрезвычайно невзрачный, ничем не примечательный офицер, начальник контрразведки II корпуса.
– Вот что, Афанасий Степанович, – сказал Слащов, подождав, пока гость усядется, испросив разрешения. – Что там у вас есть по этому Пейдару из Освага?
Афанасий Степанович чрезвычайно внимательно взглянул в глаза генералу и ответил помедлив:
– Редкая сволочь, Яков Александрович. Из тех чистоплюев демократов, что развалили армию своими речами летом 7-го… Да и на руку, похоже, нечист. Есть у нас сведения, что наживается на армейских поставках. Но не доказано, не доказано-с…
– У меня, Афанасий Степанович, – произнес негромко Слащов, и рука Нины Николаевны не дрогнула на его затылке, а продолжала массировать слегка, слегка, – у меня есть сведения, что на него сегодня ночью будет совершено покушение. Успешное, – добавил он, криво усмехнувшись, и снова боль проступила на его лице, а полковник, и без того чрезвычайно внимательный, весь превратился в слух.
– Будто бы этого Пейдара повесят в отхожем месте на подтяжках, когда он ночью туда пойдет, – негромко продолжал генерал, – но потом окажется, что убийства не было, а было самоубийство, и вокруг деньги валялись, и записка: «Возвращаю проклятые деньги».
– Прошу отставки, Ваше Превосходительство, – проговорил полковник. – У меня таких сведений нет…
– Теперь есть, – веско произнес генерал. И добавил: – Означенного Пейдара, дабы предотвратить преступление, взять немедленно под стражу, корнета Ла Форе послать к Бабиеву с донесением о завтрашнем выступлении. В караул к Пейдару – самых надежных ваших людей.
– И вот что, полковник, – добавил Слащов, – я не хотел бы, чтобы ваших людей слишком сильно наказали, когда они не уберегут эту шкуру…
Полковник встал, кивнул и пошел к выходу. На пороге он обернулся и внезапно спросил:
– Так повесят, генерал?
Полковнику показалось, что на него смотрят четыре глаза – больные волчьи и любящие и измученные человечьи.
– Непременно повесят, – ответил Слащов, и полковник вышел.