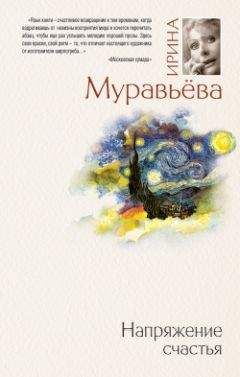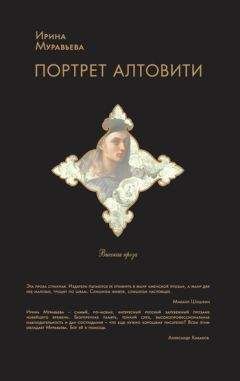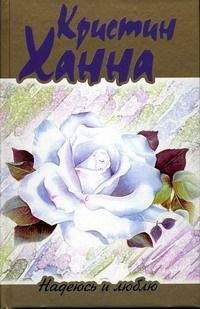Ирина Муравьева - Райское яблоко
Поколебавшись, она вынула из буфета и поставила на стол бутылку коньяка.
– Голодный? Покушаешь?
Он захохотал.
– Смотри, только не говори слова «есть»! Всегда говори только «кушать». Ты мягонько так говоришь, шепелявенько «кущ-щ-шять». Приду вот со съемок домой, будем «кущ-щ-щать»!
Марина молчала. Из комнаты Ноны Георгиевны не доносилось ни звука. Зверев налил полную рюмку и выпил залпом.
– А, вот есть и сыр. Вот сыром закусим. – Он отрезал кусок брынзы, положил в рот и выплюнул тут же на блюдце. – Нет, кисло. Коньяк забивает. Дай хлебца простого. А впрочем, и хлебца не нужно. Сама подойди.
Марина подошла. Зверев резко притянул ее к себе.
– Спать очень хочу. А один не могу. И выпью снотворного, а не могу. Шумит в голове. Ох, шумит! Хлебнешь коньячку, вроде легче. Что смотришь? Чудно? А, ладно. Поеду домой.
Марина вздрогнула в его руках. Фавн хитро прищурился.
– А хочешь, останусь? Ведь тетка не встанет?
– Она мне не тетка, – сказала Марина.
– Не тетка? А кто же тогда?
– Никто. Пойди, прими душ и ложись. Куда ты поедешь? Тебя заберут.
– Я чистый, – сказал он капризно. – Какой еще душ? Разврат это все и одно безобразие. И нечего брезговать, я тебе муж. Хозяин души твоей грешной и тела.
Марина сделала попытку высвободиться из его рук.
– Э, нет! Не пущу! Не затем я приехал! Куда идти спать? В эту, что ли вот, комнату?
Он тяжело поднялся с дивана и, крепко обняв Марину за талию, прошел в соседнюю комнату и, не выпуская девушку, повалился на кровать.
– Давай раздеваться. Снимай свои брючки! Вот так! И давай расстегнем эту «блюзочку»… Да что ты, ей-Богу, вся как неживая?
Марина заплакала.
– Пошел вон отсюда! Сначала убил, а теперь «неживая»!
На ней был один черный лифчик, и Зверев пытался его расстегнуть.
– Каких тут крючков понаделали, ужас! Все пальцы сломаешь!
Не переставая плакать, Марина села на кровать.
– Ух, любишь же ты порыдать, моя радость! Так я импотентом с тобой скоро стану! Ревешь и ревешь. Зову тебя замуж – ревешь! Хочу с тобой спать – ты обратно ревешь! Река, что ли, там у тебя, в животе?
Накрыл ее мощным своим, рыжим телом.
– Ну, вот. Ну, начнем. Только ты не брыкайся! А то я ведь пьяный, еще упаду. И тетку разбудим. Она не глухая?
Она попыталась столкнуть его. Зверев обеими руками уперся в спинку кровати. Кровать затряслась.
– Всю мебель у тетки порушим, ей-Богу!
– Пусти меня-я-я! Я не могу! Не хочу!
Когда же он замер на ней, и мокрое от слез лицо ее так и осталось вдавленным в его плечо, а руки его больно оттягивали назад и прижимали к подушке ее волосы, Марина даже и не пыталась освободиться. Агата однажды сказала: «Любовь? Что любовь? Одно помрачение сердца, и все».
Марина лежала под ним, грубым, пьяным, заснувшим уже и забывшим о ней, и сердце ее, помраченное сердце, служило как будто какой-то затычкой всему ее телу: не будь его, сердца, вся кровь ее вытекла бы на кровать.
Глава тринадцатая
Кровь
…Зверев снова увидел Неждану в сентябре. Она не пригласила даже зайти в дом и сказала, что рано утром уезжает к матери в Вильнюс. Он сразу почувствовал: врет. И ушел.
Опять прилетел через два с лишним месяца.
Снега не было, и лес стоял тихим, как будто оглохшим. Пока добирался до дома лесничего, – пешком, не плутая, – знал эту дорогу, как будто здесь сам и родился, и вырос, – уверил себя, что Неждана хотела увидеть его. Хотела еще в сентябре. Она к нему тянется так же, как он. Не может все это быть односторонним. И чем больше он думал, тем вернее казалось ему это предположение. Он напрочь забыл о том, что человеческие представления о действительности так же мало совпадают с самой действительностью, как рентгеновский снимок груди с самой женской грудью, где четки костей и размытые пятна должны заменить нежно-белую плоть и темный упругий сосок. Он вспоминал яркую краску, выступившую на ее скулах, когда она объясняла ему прошлый раз, что утром должна ехать к матери в Вильнюс, и теперь ему казалось, что эта краска и выражение ее прозрачных глаз говорили совсем не то, что говорили губы, а, напротив, показывали, что она рада видеть его и не ожидала, что он снова приедет, и, растерявшись, придумала первое, что пришло в голову, только потому, что обрадовалась и испугалась своей радости. Не нужно было делать вид, что он поверил ей. Нужно было прийти на следующее утро. Она бы впустила его.
Странно, что он все время забывал о ее муже, как будто никакого мужа и не существовало. Был лес. Была эта женщина. К ней он и шел.
Когда режиссер Зверев, неглупый, циничный, но относящий свой цинизм исключительно к избытку жизненного опыта, спрашивал себя, зачем ему эта лесная ундина, с которой они и двух слов не сказали, он только весь ежился и усмехался. В Москву привезти и жениться на ней? Но именно опыт цинизма тотчас же подсказывал Звереву, что этот шаг подобен тому, чтобы взять и жениться на первой попавшейся в чаще волчице.
К трем часам дня, когда он достиг усадьбы лесничего, почти стемнело. Но в доме светились все окна, и во дворе горели фонари. Странная картина открылась его глазам. На балке, находящейся на высоте не более двух метров от земли и перекинутой между двумя врытыми столбцами, висели вниз головами живые, подвязанные к этой балке за лапы дикие индейки, которые, как слышал Зверев, водились в литовских лесах. Лесничий в высоких резиновых сапогах и грубом вязаном свитере занимался тем, что вынимал из стоящих тут же клеток новых индеек, которых он, скорее всего, сам и наловил, крепко зажимал каждую птицу обеими руками, а жена его, тоже в резиновых сапогах, свитере и вязаной черной юбке, ловко связывала им крылья и вниз головами подвешивала на балке. Они были так заняты своею работой, что не сразу заметили гостя, и несколько минут Зверев, оторопев, смотрел на эту мрачную, шуршащую перьями птичью виселицу. Индейки старались вырваться, разевали рты, гоготали и делали невообразимые усилия, чтобы взмахнуть своими прочно связанными, огромными, темно-пестрыми крыльями. Их было не меньше пятнадцати. Может, и больше.
– Лабаз![12] – сказал Зверев хрипло.
Лесничий обернулся, а она, без сомнения, сразу же узнавшая его голос, помедлила, и руки ее, держащие уже связанную, сильно бьющуюся большую птицу, замерли.
– Лабаз, – угрюмо ответил лесничий. – Опять, что ли, съемки?
– Да, съемки. Места вот ищу.
– Ищите, ищите. А нам не мешайте. Забот и без вас полон рот.
Неждана что-то негромко пробормотала мужу по-литовски.
– Не хочет жена, чтобы я вам грубил. – Лесничий прищурил глаза. – А в чем же здесь грубость? Готовим на зиму индеек, видали? У нас супермаркетов нету. Давай начинать, что ли. Слышишь, жена?
Она поднялась на крыльцо и спустилась обратно с каким-то топориком.
– Крови не боитесь? – спросил лесничий.
Зверев не ответил. Неждана передала топорик мужу и оттянула голову первой из висящих индеек. Птица издала странный звук, как будто сказала какое-то слово, картавое, с ужасом и удивлением. Лесничий вздохнул и ударом топорика отсек ее голову.
Из обезглавленного тела хлынула кровь, а Неждана уже оттянула голову второй, потом третьей, четвертой. Крови было много, и Зверев понял, почему оба они были в резиновых сапогах. К холодному свежему воздуху примешался тяжелый кислый запах, и в будке за домом завыла собака.
– Закончим сейчас, можно чаю попить, – оборачивая к Звереву раскрасневшееся лицо, спокойно сказал ее муж. – Ведь вы же из города топали, так ведь? Устали, наверное?
Зверев махнул рукой и, не оборачиваясь, быстро пошел обратно. К пяти он добрался до городка и только в номере гостиницы начал постепенно приходить в себя. На память ему пришел недавний разговор в студии, в котором несколько человек обсуждали, имел ли право Тарковский заживо сжечь корову на съемках «Андрея Рублева».
И что он сказал тогда? Что он сказал?
– Тарковский, разумеется, был фанатиком своего дела. Для него не существовало никаких запретов, если речь шла об искусстве, – сказал тогда Зверев. – Я, может быть, сам и не стал бы жечь корову, но я не сужу. Он великий художник. Художнику много позволено разного.
И как на него закричала тогда безумная эта румынка! (Сам Зверев считал ее фильмы плохими, но с нею самой был всегда очень вежлив.)
– А кто им позволил? – кричала она. – Кого он спросил? Я думаю, дьявола! Больше-то некого! А дьявол, он и не такое позволит!
Отношение к Тарковскому на студии было особым, и метка «великого художника» столь прочно прилипла к нему, что даже такая простейшая вещь, как жалость к ни в чем не повинному существу, принявшему мученическую смерть, почему-то нужную для весьма посредственного фильма, – даже такая естественная вещь, как жалость к этому существу, и недоумение перед не знающей границ человеческой жестокостью и то по привычке не упоминались. Ну, нужно ему было сжечь, он и сжег. Одною буренкою меньше на свете. Тем более что давно уже не было в живых самого Тарковского, и многое списала его ранняя смерть и его тяжелая болезнь, приведшая к смерти, поэтому облачко грустной легенды витало над этой, как думали многие, страдальческой жизнью.