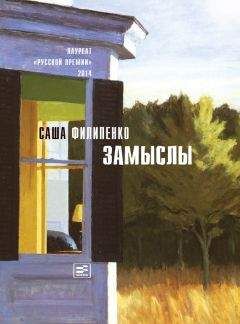Саша Филипенко - Красный Крест. Роман
– И что там делать, на этом Марсе?
– Строить новую жизнь.
– Почему бы тебе не заняться этим здесь?
– Здесь это уже невозможно.
– Отчего?
– Не позволит прошлое.
– Но ведь человек, который полетит на Марс, не сможет отправиться туда без прошлого. Невозможно колонизировать новую планету, не применив накопленные знания…
– И в этом наша главная проблема. Мы должны придумать, как поступить с человеком, который полностью себя исчерпал.
– Исчерпал? Не говори глупости! Мы только узнаём друг друга.
– Мы узнаём, а человек давно закончился. Ничего нового с нами уже не случится. Экспедиция на Марс провалится, если мы отправим туда старого человека.
– Нельзя начинать новую жизнь, позабыв о прежней.
– Нельзя, но только так возможно.
+* * *
Спустя несколько недель я лежу в спальне. Дочь еще спит, а потому я могу позволить себе выпить кофе и немного посмотреть телевизор. По Первому (российскому) телеканалу показывают «Слово пастыря». Митрополит рассказывает о кресте:
«Крест в евангельском понимании – это страдание и боль, которые порождаются обстоятельствами, преодолеть которые человек не в силах.
Существует множество примеров самоотвержения человека во имя высшей цели, высшего идеала, высшего блага. Солдат мужественно и терпеливо переносит невзгоды войны, жертвует своей жизнью во имя Отечества и победы, нередко проявляя героизм – высшую степень самоотвержения. Мать ради блага детей беззаветно жертвует собой, претерпевая непосильные тяготы, труды и жизненные невзгоды, зачастую превышающие ее естественные силы.
Итак, способность человека нести крест есть не что иное, как выражение внутренней силы.
В самом деле, нередко человек сам является причиной своей трудной жизни, постигающих его неудач и несчастий. Он совершает ошибки, избирает ложные цели, становится жертвой собственного легкомыслия, неопытности или недобрых намерений, вступает в конфликты с ближними, страдает от своей неосмотрительности и так далее. Такого рода тяготы не есть жизненный крест человека, так как их можно было избежать.
Евангелие и история Церкви определенно свидетельствуют, что крест, если это действительно крест Божий, не может оказаться непосильным…»
«Ну надо же!» – думаю я. В этот момент просыпается дочь, и я выключаю телевизор.
+* * *
Болезнь наступает. Татьяна Алексеевна уходит. Мы встречаемся каждый день, и всякая наша беседа непременно выявляет новые пробелы. Ластик памяти и ножницы судьбы. Теперь соседка не помнит, что родилась в Лондоне и однажды переехала в Советскую Россию. Она позабыла имя отца и название школы, в которой училась в Москве. Я понимаю, что у меня остается всего несколько недель, а потому все свободное время стараюсь проводить с Татьяной Алексеевной.
– Это ваша жена?
– Нет, это Лера, она живет этажом ниже. Вы ее не помните?
– Нет.
– Вы не против, если она тоже попьет с нами чай?
– Конечно, не против! Я буду очень даже рада!
– Вчера вы рассказали мне, что в середине семидесятых пытались усыновить ребенка…
– Да. И мальчика, и девочку. Мне хотелось помочь ребятам, которые обречены провести детство в советском детдоме.
– И у вас получилось?
– Нет. Мне отказали. У них было сразу несколько причин. Во-первых, по мнению специальной комиссии, я была слишком стара. Во-вторых, мое прошлое вызывало сомнения.
«Вы меня, товарищ Павкова, конечно, простите, но я хочу у вас вот что спросить: где ваш муж?»
«Вы же знаете, он расстрелян».
«Значит, вы вдова… Можем ли мы отдавать детей в неполноценную семью?»
«Мне кажется, во мне много любви».
«То, что вам кажется, нас не интересует. Мы собираемся доверить вам советских детей!»
«Я уверена, что смогу быть им хорошей мамой».
«Мы должны убедиться в том, что у вас получится. Сколько времени вы провели в лагерях?»
«Десять лет…»
«Десять лет! А это ведь оставляет свой след, товарищи! Сложно даже представить, чем все это однажды может обернуться…»
«На что вы намекаете?»
«А почему вы так раздражительны, товарищ Павкова?»
«Я не раздражительна, мне просто хочется, чтобы вы закончили ломать эту комедию! Чего вам еще от меня надо? Вы мало унизили меня? Отобрав дочь и мужа, отобрав десять лет жизни, прикарманив себе мою судьбу, вы хотите чего-нибудь еще? Так скажите! Мне не жалко! Советский Союз научил меня отдавать все. Что я должна сейчас сказать? Зачем вы издеваетесь надо мной?»
«Никто над вами не издевается, товарищ Павкова! Я просто демонстрирую собравшимся, что вы слишком вспыльчивы! Лично я не уверена, что такой человек может быть хорошей мамой».
Я встала и ушла. Не могла больше этого терпеть. Я не оправдываю себя. Я понимаю, что ради ребят, которые были в детском доме, должна была выдержать и этот экзамен, но я не смогла.
– У вас не возникало мысли покончить с собой?
– Что?!
– Я спрашиваю, почему после всего, что вам пришлось пережить, вы не покончили жизнь самоубийством?
– Потому что после срыва в тюремной больнице я пообещала себе, что проживу ровно столько, сколько мне отведено. Я должна была отыскать мужа и дочь. Узнав об их смерти – я должна была найти их могилы. Одно только то, что мой муж попал в плен, обеспечило меня заботами на всю жизнь. Я хотела помогать другим матерям и, конечно же, однажды найти его…
– Кого?
– Человека, которого подставила. Вы спрашиваете, почему я не покончила жизнь самоубийством, и я легко могу ответить вам: я жила потому только, что на этой земле меня держало последнее дело – я должна была отыскать неизвестного мне солдата и попросить у него прощения.
– Но за что вы хотели попросить прощения? – вдруг спрашивает Лера.
– Вам известна моя история?
– Да, Саша рассказывал мне.
– Тогда почему вы спрашиваете?
– Я спрашиваю, потому что не понимаю: за что вам просить прощения? Что вы такого сделали, чтобы у кого-то просить прощения?
– Я вписала фамилию другого человека.
– Ну так и что? Разве это на что-то могло повлиять? Вы что, действительно переживали из-за этого полвека?!
– А вы бы не стали переживать?
– Конечно, нет! Что за глупость! Что здесь такого?! Я понимаю, если бы вы выдумали какую-нибудь фамилию из головы, и вдруг оказалось, что такой человек действительно существует и его ни за что ни про что арестовывают. Я понимаю, если бы вы лично приговорили кого-нибудь к смерти, но вы же, насколько я понимаю, этого не сделали! Ну и что с того, что вы вписали фамилию какого-то там солдата дважды? Что с того?! Он же уже был в списке! Вы понимаете, что ровным счетом ни на что не повлияли?! Его что, по-вашему, дважды судили? Два раза отправили в ГУЛАГ? Вы думаете, энкавэдэшники особо рьяно бросились его искать и дважды расстреляли? Я правда не понимаю – вы действительно столько лет расстраивались из-за такой ерунды?!
– Я думала, что поднесла к его фамилии увеличительное стекло…
– Но это же глупость! Это же совсем не так!
– Более того, я переживала, что стала соучастницей преступления. Был список, который составила судьба, и была фамилия, которую я добавила в него лично.
– Ну и что с того? Ну добавили и добавили! Был список, вы повторили в нем фамилию, и поступок этот не мог ни на что повлиять и ничего изменить – какое же здесь преступление?
– Пятьдесят лет я полагала, что преступление против совести…
– Но это же совсем не так! Вы же не добавили эту фамилию – вы просто продублировали ее. Это как стрелять в труп! Но стрелять в труп – это обыкновенное хулиганство, а не убийство.
– Хулиганство это только в том случае, если в момент выстрела вы знаете, что человек уже труп, а, исправляя список, я этого не знала…
Я беру Леру за руку, и она понимает, что лучше замолчать. Татьяна Алексеевна несколько мгновений смотрит в окно и после тяжелой паузы продолжает рассказ:
– Так или иначе, будучи, по вашему мнению, полной дурой, я начала свои последние поиски. Обнаружив места захоронения Леши, Аси и даже Пашки Азарова, я поняла, что у меня остается один лишь последний бой. Я должна была узнать о судьбе человека, чью фамилию напечатала дважды.
– И вы стали отправлять новые запросы?
– Да. Я составляла новые обращения, но дело теперь осложнялось тем, что я помнила лишь фамилию и инициалы… Впрочем, думаю, нам лучше закончить этот разговор…
– Нет, Татьяна Алексеевна, прошу вас, Лера не это имела в виду.
– Не нужно говорить за меня. Я имела в виду ровно то, что спросила, но я не хотела вас обидеть, я просто действительно совершенно не понимаю, за что вы вините себя…
– Татьяна Алексеевна, прошу вас, расскажите, как вы все эти годы…
– Как я жила? Обыкновенно. Пока руки мои помнили – набирала самиздат. Вместе с Ядвигой мы помогали другим родственникам находить близких, и поверьте мне, Саша, порой достать информацию из наших архивов было ничуть не легче, чем вытащить самого человека из лагеря. Почти все свободное время я рисовала, и к концу 80-х картин скопилось так много, что Ядвига предложила мне сделать выставку. Я с юмором отнеслась к этой идее, но подруга настояла. С развалом Союза мои полотна начали путешествовать. Кажется, в 93-м я оказалась с картинами в Милане. Вспомнив, что всего в ста километрах, на озере Лугано меня ждет мой милый Ромео, я отправилась в небольшой городок Порлецца. Вы будете смеяться, но я нашла его. Спустя шестьдесят с лишним лет мы вновь сидели на той же Сан-Микеле. Той гостиницы, в которой я однажды пряталась от возлюбленного, больше не было, зато остались озеро и горы. Такая красота! Теперь во все это просто невозможно было поверить. Ромео не сразу вспомнил, кто я, но затем рассказал, что несколько недель действительно честно ждал меня в кафе по соседству.