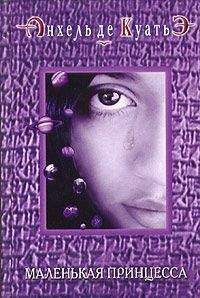Олег Ермаков - Вокруг света
– Друг! Здравствуй! Тебя сам бог послал! Я не могу, спешу, уезжаю в Витебск. Давай быстрей, а?
Я вручил ему конверт. Он начал вынимать фотографии и рассматривать их.
– А! хороша! – восклицал он, глядя на свою возлюбленную, и восхищенно цокал.
Потом принялся разглядывать фотографии уже второй раз. Я ему сказал об этом. И он, словно очнувшись, посмотрел на меня и нахмурился.
– Слушай, друг, – сказал он и полез в карман. – Я очень спешу. А у меня нет денег! Нет, есть… вот сколько-то. – Он начал считать мятые десятки. – Понимаешь? Так получилось! И у него нет, – сказал он, кивая куда-то. В его голосе слышалось отчаяние.
На обочине вдалеке стоял «москвич».
– Что делать, а? Тут только половина.
Я внимательно смотрел на него.
– Давай не все фотографии? – сказал он. – Половину! А остальное я заберу, как заработаю. Вернусь из Витебска и заберу. Мне там дадут денег. Много денег. Клянусь, я щедро отблагодарю!
Я отвел его руку с деньгами.
– Нет, что такое, а? – заволновался он, дыша винными парами, табаком.
Я ответил, что ничего не надо, фотографии – в подарок.
– Как?! Нет!.. Друг, постой!.. Я же говорю… клянусь… ты что?..
Цыган еще некоторое время словно бы отплясывал вокруг меня с зажатыми в кулаке бумажками, потом отстал и направился к своей машине.
Жене я рассказал о Кустурице. Да она и сама этот фильм видела. Просто я напомнил ей.
Ничего, настоящие шедевры ждут в местности, говорил я за поздним чаем, курганы, родники, лес, гора. Теперь я знаю, какую диафрагму устанавливать. И вообще, лето мертвый сезон. Другое дело – осень. Воздушную оптику омоют дожди. Деревья ярко зацветут красками. А там изморось, туманы, снег. Туман лучше всего передает объем. Это уже будут не плоские слепки с действительности, а высокохудожественные образы.
Я не мог так быстро отказаться от фотоаппарата.
Время после сорока лет странно убыстряется и приобретает горьковатый привкус. В путевых дневниках Басё упоминает чью-то сентенцию о том, что незавиден удел дожившего до сорока лет, очарование жизни для него навек утрачено. Вряд ли можно согласиться с категоричностью этого наблюдения. Но и отрицать, что чары жизни тускнеют, я не возьмусь. Тускнеют, это уж так.
И хорошо, если в это время появляется какая-то новая страсть.
Леви-Стросс толковал о радости дикаря, участвующего в явленном великолепии вещей. Современный человек закопался в вещи и эту радость утратил. Походы в местность возвращали мне первобытную радость. Но со временем и она потускнела. И неожиданно машина пробила брешь в этой стене. Фотоаппарат стал тараном. И я с головой кинулся в этот омут майи. Ведь даже истинные буддисты, монахи Саппака и Экавихарийя, были ею очарованы, если запечатлевали все, что видели из своих пещер, в поэтических строчках.
Но я уже подозревал, что новая страсть совсем не упрочит мое существование.
Указатель
К стоянке под дубом я подходил в сильном дожде, на склоне перед Волчьим ручьем увидел лосиху с лосенком: они обрывали листья молодых берез и не обращали на меня внимания; дождь глушил мои шаги, но и не давал взяться за фотоаппарат. На следующий день уже налегке я отправился на тот же склон.
Вообще все это мне сильно напоминает бесконечную погоню за сумасшедшим художником, каким-то небесным Ван Гогом или солнечным Левитаном. Точно неизвестно, где и когда он обнажит свою кисть, как шпагу, и нанесет удар за ударом, окрасив разноцветной кровью тот или иной кусок полотна. И тут же одним махом сотрет все тряпкой ветра и туч, плеснет водой и начнет заново, но вдруг бросит и уйдет куда-то в соседнюю долину – вон видны сполохи его работы, беги туда, регистратор мгновений, взявший на себя эту обузу.
Путь пролегал через ольшаник. Этот ольшаник, поросший желто цветущим чистотелом, всегда останавливает и вызывает желание запечатлеть его. Ольха – простецкое дерево. Но в сочетании с зелеными букетами чистотела ее серые стволы выглядят живописно и немного странно. Это трудно объяснить. Серый цвет вообще зыбок, обманчив. Дым, сумерки, совы, пепел. Хотя Кандинский характеризовал серый как безнадежную неподвижность. Но и отмечал, что «при усветлении в краску входит нечто вроде воздуха, возможность дыхания, и это создает известный элемент скрытой надежды».
В ольшанике я остановился, достал штатив, фотоаппарат. Но освещение было скучным, надо дождаться вечера. Впрочем, если только немного поэкспериментировать, хотя всякого рода постановки и не люблю. И я повесил куртку на ближайшее серое дерево. Это навело на мысль о комнате – да, такая необычная комната, заросшая цветами, струящаяся серыми дымчатыми стволами. Не хватает только будильника или настенных часов… Но есть ручные. Отщелкнул браслет часов, повесил их на сучок – и тут обратил внимание на время: было четыре часа.
Не знаю, в чем дело, но это время кажется мне особенным. Думаю, у каждого есть свой магический час. Или даже часы, как у географического всеохватного Уитмена. Он посвятил этому эссе, которое так и назвал: «Часы для души». И у него это утренние и вечерние часы. Вдохновению заката посвящал свои строки и Генри Торо, замечая при этом, что если «испытываешь душевный подъем, зачем с кем-то встречаться? Поневоле будешь один. В этот момент ум, ясно постигающий любые проявления природной красоты, далек от человеческого общества».
Вечер кажется яснее и глубже утра, как всякая печаль содержательнее радости и ликования. (Здесь уместно вспомнить реплику Борхеса о том, что мало кому удавалось драматизировать радость, а не боль и страх, – вот, кстати, Уитмен это и сделал.)
Вечер древнее утра. И он сулит открытие тайн: с неба совлекается покров. Солнц и миров много – это понятно любому зрителю, – и многообразие будит пытливую мысль.
Хорошо, хорошо, но что сулят четыре часа? Что вообще это такое? День или вечер? Преддверие вечера. Уже не день. Это зыбкая граница…
Нет, трудно объяснить. Возможно, здесь таятся какие-то давние события, сказывается позабытый распорядок дня деревенских времен. Но, может быть, удастся что-то прояснить, фотографируя этот час?
И я не придумал ничего лучше, как фотографировать механизм, фиксирующий время: часы.
Только с четырех до пяти. Этот час. Он ускользнул незаметно. И я подумал: а не кроется ли здесь какая-то лазейка? По крайней мере, потом на фотографиях обнаружилась некая прореха: туда уходило время. Но не исключено, что оно оттуда проистекало – там, в ольшанике, на холме между двух ручьев: Городцом и Волчьим.
Нет, ничего не стало понятнее. И еще Августин предупреждал, что безнадежное это дело – говорить о времени.
…А тем более – фотографировать его. Но на следующий день уже на другой стоянке в лесу на речке Ливне я продолжил то же самое, может быть, только для того, чтобы снова оказаться в этой лакуне, где исчезает время, и пережить ни с чем не сравнимые чувства.
Поговорки не врут. А точнее, поэты. Мы счастливы, когда исчезает время. Оно исчезает не только в любви, но и в работе, во вдохновенном деле. Любой изумляется, оторвавшись от чего-то, захватившего его, при взгляде на часы: ого! В этом всегда радость, она в преодолении времени. И здесь надежда на то, что можно будет преодолеть его навсегда.
Это всегда удивляет и хмелит: возгонка времени. Словно ты побывал на каких-то запредельных орбитах космоса, где время течет по-другому, ну, все мы помним этот пример с братьями-близнецами, один из которых бороздил в ракете мироздание, а другой оставался на земле, и в итоге космонавта, молодого и бодрого, встречает согбенный старичок с белой длинной бородой.
И здесь ты, полный сил и радости, спускаешься по трапу, чувствуя, что прошло всего-то несколько минут, и внезапно встречаешь себя самого – старичка с белой бородой.
Тайное наше желание – упразднить время вообще. И в творчестве или любом кипучем деле мы к этому и приближаемся. И поэтому нет зверя страшнее скуки, и зверь этот – время, ползущее черепахой.
Счастье – это лакуна во времени. «Ниша света» (название одного суфийского сочинения) – вот лучший образ для этого. И фотограф, сиречь светописец, любитель он или профессионал, ищет в потоке времени мгновения, исполненные особого света. Правда, как правило, это утренние часы или вечерние. Но уж никак не четыре часа дня.
И все же я продолжал фотографировать часы с браслетом над мутноватым после дождей потоком Ливны. Часы Casio напоминали маленькую металлическую луну или какой-то странный летательный аппарат, зацепившийся трапом за веточку над водами, несущими сухие листки, всякий лесной сор.
Но по трапу никто не поднимался, словно эти маленькие пришельцы не решались показываться под объективом или у них возникли непредвиденные трудности с экипировкой…
Где-то в березовом лесу пропел свое «юрли-юрли» черный дятел. Потом в вышине прогудел самолет. Не удивился бы, если бы часы вдруг пропали. Нет, часы были на месте. А вот мой странный час исчез. Как? Куда? Что это вообще было? Что произошло за этот срок? Я с трудом помнил. По Ливне проплывали листки, веточки, я фотографировал… Фотографировал что?