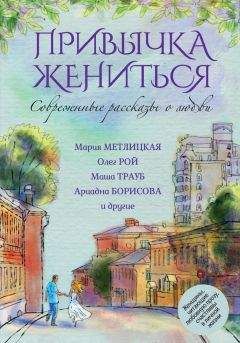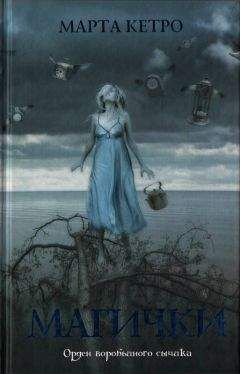Марта Кетро - Книга обманов (сборник)
Оленька всерьёз надеялась, что остаётся невидимой. Дело не только в том, чтобы ловко прятать концы интриг, страшась наказания. Она вообще не хотела, чтобы кто-нибудь смотрел на неё. В детстве и юности Оленька слишком сильно зависела от людей, а потом освободилась, но взамен пришло легкое презрение, будто вокруг лишь статисты в её играх. Она умела любить одураченных с особенной грустной нежностью, заботиться о них, как о детях, – они и были её детьми, вскормленными молоком иллюзий, и, если внезапно сменить им диету, могли погибнуть. Или, возможно, они наркоманы, которым не выжить без привычной дозы обмана, слабоумные и нестрашные.
А боялась она иного – чужих холодных глаз, которые попытаются рассмотреть её, настоящую. Оленька соглашалась предстать злой, подлой, безобразной – но только если сама решит показаться именно такой, проконтролирует отражение в зеркале. Но вдруг кому-то удастся сморгнуть ворожбу и увидеть – бог знает что, – слабость, некрасивую жадность, какой-нибудь неудачный ракурс лица или характера, или другое, чего сама за собой не подозревала. Нельзя, чтобы под духами учуяли её настоящий запах.
И во что это выльется, чем её накажут, она не знала. Разлюбят, унизят, посмеются? Неизвестно, одно только понятно – хорошего не будет. И Оленька чувствовала, что ей в тысячу раз проще колдовать и путать следы, чем однажды встретить и вынести прямой взгляд наблюдателя.
Как-то сказала Паше:
– Я, знаешь, очень понимаю самураев. Когда их кто-нибудь оскорблял, они себя убивали. Потому что не могли после этого жить. Вот и у меня первое побуждение – умереть.
– Здоровая реакция на оскорбление – агрессия.
– Так то здоровая. А самураям честь не позволяла жить униженными.
– Ты, деточка, путаешь. Они, видишь ли, мыслили себя частью клана и считали, что в случае чего должны себя отсечь, чтобы позор не перешел на их господина, или как там у них было, я не силён… А то, что у тебя, это обыкновенная гордыня. Но я прослежу, чтобы тебя никто не обидел.
Не ответила тогда, но подумала: ведь бывают ещё ронины.Глава 5
– Дошло до меня, о великий царь, будто жил в нашем городе купец, богатый, удачливый, видом и нравом благородный, жен имел и наложниц… Не, я затрахаюсь в таком стиле рассказывать. Короче, был чувак, и всё у него было. А ко всему – жена и стадо любовниц. Он их всех любил, как умел, а они между собой грызлись и его грызли, потому что сосать молча – это путь настоящих мудрецов, а они были простые любящие женщины. А любящая женщина хочет сам знаешь чего – не денег и секса, это слишком просто, а чтобы весь был только её. И представь: зимним вечером приезжает он домой, там жена смотрит скорбно; отправляется к блондиночке в пентхаус – она ему катает истерику; сбегает к рыженькой в загородный замок, а в голову с порога тарелка прилетает. И все хором: «Я тебя люблю, а ты!!!» И одно только спокойное место для него есть, галерея, где он хранит картины и всякое красивое барахло. Потому что превыше всего на свете этот человек любит искусство. Я бы даже сказала Искусство с большой буквы. И глубокой ночью он туда, наконец, доезжает, на ступеньках снег нетронутый, открывает хитрый замок на двери, со всякими там распознавателями отпечатков и сетчатки; включает какой-нибудь рубильник, и по всем длинным залам начинают лампы вспыхивать, одна за другой так – чух! чух! чух! И он ходит и смотрит, ходит и смотрит. А потом поднимается по крутой узкой лестнице, открывает ещё одну дверь, совсем уж секретную, а там комната белая-белая, а посреди стоит его единственная главная любовь – бронзовая борзая. Ну, стату́я. Такая, знаешь, не очень крупная, меньше натуральной, но в ней каждая жилочка поёт и мчится – вот какая. И он подойдёт, обнимет её, а потом сядет в углу, марочкой закинется и смотрит, смо-о-отрит.
– А он дрочит при этом?
– Ну, не без того. Но вообще у них всё чисто платонически, без всякого там.
– Так и живёт?
– Не, какая сказка без финала. Его все мучают (или он всех мучает – как посмотреть), жизнь идёт, идёт, запутывается, и однажды в этой белой комнате собираются все его актуальные бабы: жена, две любовницы, ещё новая какая-то девочка восхищенная… И они все сидят и глядят на него – с любовью. Даже бронзовая борзая и та голову повернула, смотрит выжидательно. И он тогда открывает окошко, выбрасывает косяк, лезет на подоконник и того…
– Разбивается?
– Неа. Улетает.
– Как птичка?
– Ну, как толстенькая тяжёленькая птичка, сначала низэнько-низэнько, а потом ничего так, высоту набирает, и над городом, между труб и мачт, к северу.
– Почему к северу?
– Потому что скоро лето, снегири улетают.
– А бабы чего?
– Бабы расходятся плакать и делить имущество.
А бронзовая борзая остаётся одна, вскидывает острую морду и воет.
Ой, девка, повезло тебе в жизни – за обманщиком-то замужем быть. Ведь он тебя, дуру, бережет. Душу свою бессмертную на фантики меняет, чтобы тебя не тревожить. А на это мало кто готов, они же всё норовят по правде, по честному. Придёт такой вечером домой, лица нету и молчит. Час молчит, два молчит, а потом возьмёт да и вывалит всю правду на стол, как орехи. Целую гору орехов, круглых и твердых: захочешь разгрызть – зуб сломаешь, а кинешься убирать – рассыплешь. Раскатятся, разбегутся по полу так, что не шагнуть, того гляди наступишь. И через год, бывает, пойдёшь босая, а он откуда ни возьмись под ногой, и вопьётся. Пустяк вроде, а больно. Так и правда его по всей жизни разлетится и затеряется, будто и не было ничего, а потом однажды ступишь беззащитно – и напомнит, до самых печёнок проберёт.
А обманщик что – он вроде как с конфетами заявится, улыбнётся и кучей выложит… Ты на шоколадную конфету на ступала? Липко, скользко и противно маленько, а так ничего. И пахнет сладко, не говно, жить можно.
Паша собрался уехать на пару дней по неинтересным и неназываемым своим делам, и Оленька тревожилась: она любила одиночество, но терпеть не могла спать в пустом доме, несмотря на хорошую охранную систему и обслугу, живущую в соседнем здании. Её пугали вещи, против которых сигнализация бессильна: порывы ветра, ударяющие в окна, странные звуки, полёвки, которые иногда прибегали поздней осенью в поисках тепла.
– Одна ночь всего, потерпи. Мальчика своего пригласи, пусть с тобой побудет.
– Катя ему плешь проест потом. Но я спрошу, конечно.
«Да, если он не вернётся, пропадёт, и я пропаду, обессилю. Что я без него? Со своими дешёвыми хитростями, страхами, стареющим телом и никчёмной душой – без его верности и прямоты». Десять лет уже было их браку, а она только недавно поняла, что больше не считает этот дом временным пристанищем, и мужчина, бывший всего лишь средством, стал единственным, чем стоило дорожить. Никакой из неё был мифотворец, негодный ЭмСи, беспомощный демиург – если не было за спиной опоры. Осознание ослабляло её – и делало счастливой. Ещё в юности она где-то услышала фразу, что мужчина управляет миром, который стоит на ладони у женщины, и, однажды восхитившись величием картины, так себе и представляла идеальную жизнь. А теперь эта мысль всё чаще казалась ей пошлостью. Может, Клевер и пляшет под её дудку, а Пашу иногда удаётся сбить с толку, но всё-таки перед его преданностью всякие игры как-то мельчают.
Она встала на рассвете, чтобы его проводить, вышла за порог, накинув драный рыжий полушубок, купленный в самом начале их совместной жизни. Лето в тот год случилось дождливое, и они внезапно сорвались и улетели в Турцию, которая, впрочем, радости не принесла – оказалась для Оленьки слишком жаркой и шумной. Большую часть времени она проводила в номере, купалась рано утром и совсем не загорала. Несколько раз выбирались в ближайший город, но солнце в нём было совсем невыносимым, и спастись от него получалось только в многочисленных полутёмных лавках – а там их брали в оборот торговцы. Оленьке хотелось визжать, когда они подходили слишком близко и заглядывали в глаза. Но улицу заливал жестокий белый зной, в кафе ей не нравился запах, и поэтому каждые четверть часа приходилось сворачивать в ювелирный магазинчик или меховой салон.
Юноша ведёт их вниз по лестнице, в небольшой прохладный зал, увешанный шубами, и передаёт пожилом турку, который выходит навстречу, и начинает свой «танец продавца», и чем-то завораживает Оленьку так, что она не пытается немедленно сбежать, а садится на коричневый кожаный диван и соглашается выпить чаю. Мужчины степенно беседовали между собой, будто никого не интересовала возможная сделка, – просто один уважаемый человек зашёл к другому уважаемому человеку. Но разговор плавно перетёк на погоду, холодные московские зимы и тёплую одежду, и турок впервые посмотрел на Оленьку:
– Жена?
– Жена.
– Жену надо баловать. У меня их три: одна по закону, одна по любви и одна для жизни. И всех одень, всем подари… Что хочешь?
– Полушубок, – неожиданно решила Оленька, – рыжий.