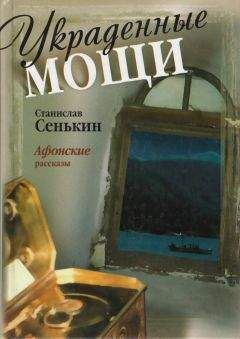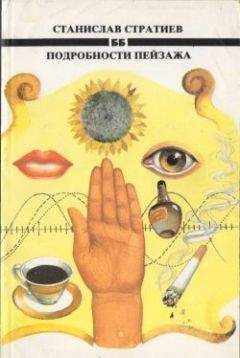Станислав Сенькин - История блудного сына, рассказанная им самим
…Листая житие протопопа Аввакума, я вдруг вспомнил Ленина и его последний рассказ, который, как нас учили в школе, он читал. Это был Джек Лондон, умерший от передозировки морфина. Рассказ назывался «Любовь к жизни». В этом рассказе человек сражался с волком за старую обглоданную кость, затем убил зверя в жестоком сражении и выпил его кровь. Лондон ставил человека на уровень животного, а любовь к жизни на уровень животного инстинкта самосохранения. В школе нас учили, что этот рассказ показывает силу человеческого духа в борьбе за жизнь, которой отличались истинные революционеры, которыми были и Лондон, и Ленин. Обращение к этому рассказу как бы свидетельствовало, что Ильич любил жизнь всем сердцем. Но, листая Аввакума, я вдруг понял, почему Ленин, умирая, обратился именно к этому рассказу Лондона… Как это может быть – любил жизнь, но ненавидел Бога? Для атеиста – смерть есть избавление от страданий. Некая пустота – нирвана небытия. А жизнь – нелепая случайность, которую легко можно положить на алтарь победы революции, причём, как свою, так и чужую. «Спи спокойно, добрый наш товарищ!» – так обычно прощались со своими большевики.
Джек Лондон был великим атеистом – он точно знал, что умрёт вместе со своим телом. Ленин подвергался перед смертью страшным мучительным болям и постыдным немощам, продолжая исповедывать атеизм и безразличие к идее вечной жизни. Но неужели даже не проскальзывала в его голове мысль, что, возможно, он не прав? Что есть и Бог, и есть вечная жизнь! И есть посмертное воздаяние!
Книга Лондона нужна была Ленину, чтобы перед смертью окончательно утвердиться в идее, что человек не более, чем животное, умеющее считать. Что его страх смерти – лишь животный инстинкт самосохранения, а любовь к жизни – агония умирающего существа. Я покопался в отцовской библиотеке и специально нашёл этот рассказ, раскрыл книгу и положил рядом с «Житием…» Смерть любого из великих людей – есть очередной ответ на загадку жизни. При всех полярно противоположных взглядах мой отец и Ленин были чем-то похожи. Они были одинаково принципиальны – «камни», да и, честно говоря, отношение к земной жизни у них было отрицательным. Любовь к жизни Ленина чётко прорисована великим американским прозаиком. Я открыл книгу Лондона и пробежал по строкам рассказа:
«… Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые оттого, что в их клетках ещё не угасла жизнь. Может быть, к концу дня и от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть – уснуть. Смерть – это значит конец, покой. Почему же ему не хочется умирать?..» – Дальше шла сцена пожирания человеком костей и высасывание из них жизненных соков, бездумно, безо всяких рассуждений о смысле бытия… Вот нашёл ещё одну интересную фразу: « … Его душа и тело шли рядом и всё же порознь – такой тонкой стала связывающая их нить… Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако жизнь, ещё теплившаяся в нём, гнала его вперёд. Он очень устал, но жизнь в нём не хотела гибнуть». – Здесь Лондон фактически отделяет «душу» – личностное начало человека – от жизни, – по его мнению, начала только биологического, но которое обладает своей волей. Фактически Ленин был поклонником смерти, а не жизни и «любовь к жизни» в его версии – всего лишь агония или фарс смертной личности… Борьба несуществующей «души» с биологией жизни за право умереть – только так, с точки зрения атеизма, можно объяснить агонию…
А страх небытия был для Лондона лишь мучительной иллюзией, порождаемой чисто биологическим инстинктом самосохранения. Здесь я подумал, что атеизм не так далёк от теизма, как кажется. Говоря, что Бога не существует, атеисты подразумевают, что не существует ничего, кроме материи. Поэтому, когда верующие говорят, что Бог – нематериален, они фактически повторяют слова атеистов о том, что Бога нет. Только для одних – Дух – не сущее, а для верующих – единственно вечно сущее. А для мистиков, прозревающих глубины, не сущее и сущее есть одно.
А вот уже строчки из «Жития протопопа Аввакума», которое перед смертью читал мой отец:
«Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопопица брели пеши, убивающеся о лед. Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошедьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, – кользко гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нее набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: “Матушка-государыня, прости!” А протопопица кричит: “Что ты, батько, меня задавил?” Я пришел, – на меня, бедная, пеняет, говоря: “Долго ли муки сея, протопоп, будет?” И я говорю: “Марковна, до самыя смерти!” Она же, вздохня, отвещала: “Добро, Петровичь, ино еще побредем”.»
Здесь тоже описывается мучительность жизни, но эта мука не агонии, как у Ленина или героя рассказа Лондона, а мука рождения: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия.» (Ин.3;3) «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир.» (Ин.16;21)
«Неужели недостаточно, что сад очарователен; неужели нужно шарить по его задворкам в поисках фей?» – восклицают современные атеисты, не понимая, что очарование сада именно в том, что феи существуют; и только сердце, преданное чуду, может видеть их весёлый танец, превращающий очаровательный сад в райские кущи. Атеист Лондон в болезни принимал морфий и умер от передозировки, потому что для него предсмертные страдания не имели никакого смысла. Но мой верующий отец сам отказался от морфия, потому что принял предсмертные страдания осознанно, потому что знал, что так Бог преуготовляет его для вечной жизни. И, как говорил отец Олег, батюшка вспоминал в этих болях и обо мне, страждущем, хотя я сам отнёсся к его болезни более, чем легкомысленно.
Безо всякого сомнения, он горячо любил меня – своего единственного сына – благословение Матери Божьей со святой горы Афон – и часто молился обо мне, желая самого доброго… Он был хорошим отцом, да будет земля ему пухом, а рай – новой родиной. А я вот был плохим, отвратительным сыном и земля будет мне гробом сырым и изжарят меня на одной сковородке вместе с Сапсаном, если он не ускользнёт от сей участи, как благоразумный разбойник… Я ведь совершенно забыл об отце – одиноком и заброшенном. Только несколько друзей-священников и пара старичков из прихожан продолжали с ним общаться и навещать его во время той самой болезни. Когда я узнал, что у отца – рак, я уже работал в казино и мне нужно было разобраться с нечестным на руку крупье. Я был под «хмурым» и известие принял спокойно, полагая, что отец уже достаточно тянул свою жизненную лямку и пора бы ему на покой, к Тому, Которому он служил всю свою сознательную жизнь. У меня даже в мыслях не промелькнуло, что отец – единственный родной мне человек на этой земле…
Да. Вот такая исповедь, дорогой дневник!
…Мне уже плохело, начало морозить и сопливить, собачья душа намокла каплями, как поётся в одной песне. Нужно было поправиться для того, чтобы вновь ощутить себя человеком. Вытащив из кармана пакетик с веществом, я неожиданно понял, что здесь – в святом для отца месте, перед образами Господа и Матери Божьей, где лишь неделю назад погасли лампадки – я просто не смогу поставиться. Это будет кощунством и очередным гвоздём в крышку собственного гроба. Хватило того, как я разочаровал его при жизни, чтобы глумиться над его памятью после его ухода. Да и вообще в пакетике с героином сидел чёрт, который, во что бы то ни стало, хотел добраться до моей крови. Во что бы то ни стало! Эта мысль представилась мне неким прозрением, что часто бывает на отходняках, и я серьёзно задумался.
Положив, точнее, запихав трясущимися руками в карман героин, я затеплил лампадки при помощи той самой зажигалки, которой обычно разогревал чайную ложку с нафтизином. Образы просветлели, просветлела и моя душа. Однако это просветление не принесло облегчения, уступив место чувствам недовольства собой и разочарования тем похабным образом жизни, который я вёл. Как никогда я понимал, что храм души моей давно превратился в сарай, полный всевозможного хлама, пыли, юркающих в поисках заплесневелого сыра мышей и ржавых железок… Будто бы я сейчас – как новый Плюшкин в колпаке идиота – держал подсвечник в руке и созерцал множество никчемного хлама, который я заботливо тащил в душу откуда только можно. Свинья, как говорится, грязь найдёт. Душа превратилась в самое настоящее лежбище, какое имел Марк Раскин на чердаке. Лежбище для самовлюблённого и эгоистичного ума, который давно уже не следует своему предназначению и созерцает мечты, которые образуются в результате распада нейронных связей головного мозга. И ум научился наслаждаться этим распадом, как старый развратник противоестественным блудом, отвратительным нормальному человеку. А если быть точнее – ум наслаждается распадом вместе с тем, кто таится в пакетике с героином. Только, в отличии от меня, у чёрта нет тела, которое с каждой инъекцией всё больше превращается в тушку, и мозгов, что медленно, но верно вянут под воздействием героина.