Татьяна Москвина - Жизнь советской девушки
Но как раз Достоевский-то отчасти предвидел такое развитие событий. В рассказе "Сон смешного человека" главного героя после самоубийства некий летающий проводник утаскивает на другую планету – автор описывает, как они летели мимо звёзд, – и там он видит идеальное общество гармоничных людей, живущих на райском "двойнике" Земли. Насладившись гармонией, "смешной человек" развращает эту дивную цивилизацию! Идеальные люди приучаются врать, воровать, убивать, отъединяться друг от друга, губить природу и… мечтать о былом "золотом веке". А герой страдает, но не может не развращать ниспосланный рай – в нём живёт некий "вирус", бацилла, нечто вредоносное в принципе. Он заражает невинных невольно, бессознательно – одним присутствием, одним прикосновением своим к их жизни, как чумной или прокажённый.
И не то бы удивительно, что нас, чумных, не пускают в космос, – а то, что мы там всё-таки были, прорвались, зарвались. Намечтали тысячи томов о своей будущей жизни во Вселенной! А оказывается, правомерность нашего существования даже на этой планете – сомнительна. И, покинув свои колонии на Марсе и Альфе Центавра, мы опять вернулись к Достоевскому и его проклятому вопросу: так люди в силах преодолеть "злое насекомое" в себе или это безнадёжно?
Кстати, довольно смешно, что перед самыми отвлечёнными от реальности понятиями в те годы стояло слово "научный": "научный коммунизм", "научная фантастика". Логичным было предположить, что "научный коммунизм" – это есть отрасль "научной фантастики", что являлось истиной. Но слово "наука", как проворный паук, опутывало нежной паутиной всякий анализ. Сказано – "наука", ну и падай ниц! Коммунизм – вековая мечта человечества. Была. Теперь, с помощью науки, мечта станет действительностью. Как?
"Ну, мыши, я – стратег!" – так ответил на этот вопрос мудрый филин мышам, посоветовав им превратиться в ёжиков…
(Кстати, о коммунизме. Разговоры о том, что при коммунизме не будет денег, тревожили обывателя. Никто всерьёз не верил в такое развитие событий, но беспокойство было: кто их, коммуняк, знает! Мало ли они экспериментов понаделали – возьмут да отменят. Отчасти и этим объясняется нервозная предприимчивость жителей верхних этажей Сферы обслуживания – пожить бы, пока коммунизм не ввели!)
Я почти не читала запретной литературы, самиздата, – в моём кругу она не циркулировала – помню разве тоненькие листики папиросной бумаги с еле различимыми ("слепая копия") стихами Гумилёва и Бродского. Понравились они мне до дрожи, правда, в те годы меня волновали всякие стихи. Лермонтова, Некрасова, Маяковского и Есенина я знала наизусть километрами. Любила Твардовского, Слуцкого и даже Мартынова с Дудиным и Шефнером.
("Какие хорошие выросли дети,
У них удивительно ясные лица!" – писал в шестидесятые годы Леонид Мартынов, и я так понимаю, что поэт пишет о нашем поколении. Это у нас были «удивительно ясные лица»? Хм-хм, надо бы взглянуть на детские фотографии Гайдара, Чубайса и Грефа…)
Какого вкуса можно ждать от бессистемно читающего ребёнка из семьи "интеллигентов первого поколения"? Никакого у меня не было вкуса. Конечно, я понимала, что поэмы Егора Исаева – тупой барабанный бой, а наивно-назидательный Эдуард Асадов годится разве для девочек, которым тяжело одолеть даже школьную программу по литературе. (Его стихами терзала меня моя летняя подруга Вера, списав их в особую девичью тетрадь.) Но выстраивать иерархии я не могла и не собиралась. Неужели это так важно – определять, кто в первом ряду, кто во втором и так далее? А кто тебя уполномочил, собственно?
Разве есть такие весы, на которых можно взвесить, скажем, поэтов и уверенно сказать, что Блок "лучше" Гумилёва, а Мандельштам – Есенина?
Или Борис Слуцкий. Он уж точно не в "четвёрке" и даже не в "десятке" лучших поэтов ХХ века – но разве не обеднил себя тот, кто не знает об этом уникальном суровом голосе, исключительно своеобразном опыте, претворённом в чеканное слово?
Надо служить народу,
Человеку, а не рублю,
А если на хлеб и воду —
Я хлеб люблю. И воду люблю…
Или обожаемый мной Дмитрий Кедрин, чью поэму «Зодчие» я выучила наизусть сорок лет назад и помню до сих пор. Ни на кого не похожий умница, виртуоз, каким-то чудом проглотивший частицу чистейшей мировой поэзии, сочинивший великолепную ироническую балладу о судьбе поэтов («Приданое»)…
По-моему, пора всё-таки попридержать игру в "империю словесности", выстраивая "вертикаль власти". Пусть и в этом деле будет немножко демократии. Ведь в жизни мы чего-то всё-таки достигли – скажем, обязаны формально уважать президента, не оскорблять его и не марать – словом, "отдавать дань" (это с татар повелось, отсюда выраженьице), но любить-то, любить-то его мы не обязаны! И никто, кстати, не требует. Это и есть прогресс!! Царей-то и коммунистических вождей требовали любить. Принуждали к любви, так сказать, – мы помним, с каким в итоге результатом.
Вот и к "царям и вождям словесности" тоже любовь необязательна. Мой причудливый папа, например, любил сильно подзабытого уже в 50–60-е поэта Илью Сельвинского. Написал прекрасные песни (точнее, вокальные циклы – просто папа был дилетант и композиторскими терминами трепетал пользоваться) на его стихи. Почему Сельвинский подвёргся остракизму и был изгнан из умственного обихода – понятия не имею. Видимо, у нас справедливости нет нигде и ни в чём…
Черепаха на базаре Хако-дате на прилавке обессиленно
лежит,
Рядом высятся распиленные латы, мошкара над
окровавленной жужжит,
Миловидная хозяюшка степенно выбирает помясистее
кусок,
Отрубите мне, прошу, на пол-иены этот окорок или
вот этот бок…
И пока мясник над ухом у калеки смачно хрякает
топориком, рубя,
Черепаха только суживает веки, только втягивает
голову в себя,
Отработавши конечность, принимается торговец
за живот,
Но смотри – не умирает черепаха, удивительно
живучая – живёт!
Здесь, читатель мой, кончается сюжет,
Никакого поучения здесь нет,
Но, конечно же, я не был бы поэтом,
Если б мысль моя закончилась на этом…
Так что у меня строгой иерархии любви не имеется – я люблю русское слово, отечественную словесность почти всю без изъятия. Ну, конечно, жуткие советские генералы от литературы (Марков, Чаковский и пр.) сюда не входят, а вот уже с Проскуриным или Ивановым («Вечный зов») вопрос не элементарен, высиживали они свои эпопеи, отчаянно подражая Льву Толстому и Шолохову, чугунной задницей и доводили их таки до корявой выразительности глиняных идолов. Многих же русских и советских литераторов безвинно настигли пески забвения.
Поэтому я с величайшим сочувствием отношусь к вызывающей книге Самуила Лурье "Изломанный аршин" (издана в 2012 году), где он восстаёт против литературных убийств и заточений в клевету, восстанавливая доброе имя честного работника, литератора Николая Полевого, который в 20–30-х годах ХIХ века издавал самый популярный журнал России – "Московский телеграф".
Содрогается душа, когда читаешь, как писатели – из зависти, а власти – из тупости (но вместе и одновременно, что для травимого писателя – кранты) уничтожили добросовестного человека, силой ума и прилежания выбившегося в интеллектуальную элиту из купеческого сословия. Это принципиально важный для литературы шаг и редкий к тому же – но всё ж таки, кроме книги Самуила Лурье, есть и ещё "попытки досрочного освобождения из забвения и снятия клеветы". Помню прелестный очерк моего учителя Е. Калмановского о подзабытом Мамине-Сибиряке ("Дочь Аленушка") и о вовсе забытом поэте-бродяге Шумахере. Или сочинение Т. Александровой про одарённейшую Мирру Лохвицкую, сестру Тэффи…
Для меня после этих оправдательных жестов клеймо каких-то несущественных маргиналов с этих фигур было полностью снято. Так что процесс идёт, думаю, что он затронет и многих женщин-писательниц прошлого и позапрошлого века, о которых принято думать, что все они были бесталанными графоманками… (надеюсь принять в этом заметное участие!).
Но над моей общей любовью к русскому слову тем не менее возвышаются несколько личностей, которым отдано было по многу лет восхищения и увлечения самого пристального, – М. Е. Салтыков-Щедрин, А. Н. Островский и, конечно, Достоевский!
Недавно стала обращать внимание на дико смешные его словечки и фразы. Вот он в сурьёзнейшем "Дневнике писателя" пишет, как за границей правильно держат себя русские генералы. Как войдут в вагон поезда, следующего на Запад, так облекают себя в "мраморное молчание".
И как он вытащил, из каких потаённых углов своей космической личности, госпожу Хохлакову ("Братья Карамазовы") с её "больной ножкой", сомнениями в наличии внимающего ей Бога и прочей отчаянно, уморительно забавной трескотнёй! А вот счёл нужным, прописал в своём мире вместе с преступным мыслителем Иваном Карамазовым и святым старцем Зосимой. Она со всеми знакома, во всём принимает живейшее участие, она – тоже законный житель города Скотопригоньевска.
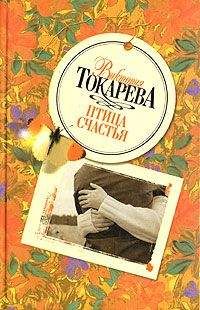
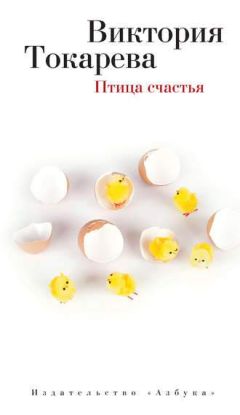
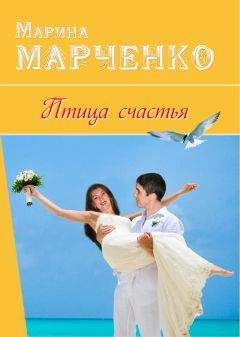
![Конни Мейсон - Птица счастья [Птица страсти]](/uploads/posts/books/18097/18097.jpg)
