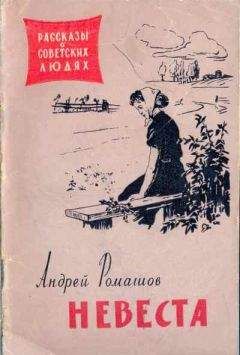Мария Метлицкая - Ее последний герой
– Довольно? – спросил он. – Про становление и формирование все ясно?
Она кивнула и выключила диктофон.
– Устал?
Он покачал головой.
– Знаешь, возвращаться туда не всегда приятно. Молодость, конечно… Но я тогда себе не очень нравился: закомплексованный, нищий, плохо одетый вихрастый сопляк. Но что было, то было.
– А когда ты себе понравился? – тихо спросила Анна и незаметно нажала кнопку диктофона.
– Позже, – ответил Городецкий, – значительно позже. Наверное, когда снял свою первую картину.
Он задумался и замолчал.
– Да, наверное, тогда. Когда появились первые деньги, первые бабы и первое ощущение, что ты что-то можешь.
Он прищурился и усмехнулся:
– Работаешь, милая? Ни дня без строчки? «А вот сейчас поймаю! На чем-нибудь, а ведь поймаю! Зацеплю, пока он, старый дурак, разнюнился и рассопливился».
Она смутилась и выключила диктофон:
– Дурак! Можно подумать…
Он кивнул:
– Дурак, а как же. А пойдем-ка полопаем, моя прелесть! Что у нас там, в волшебном холодном шкафу? Пельмени? Замороженные котлеты? Куриные ноги?
Она встала с кресла.
– Вот именно, ноги. Будут тебе сейчас ноги. И руки, если захочешь, – проворчала она, отправляясь на кухню.
– Вот и умница, – крикнул он ей, – вот и займись, наконец, женским делом! А то – когда, зачем, почему… Любопытная какая. Ты мне кто? Журналист или любимая? Интересно.
Он встал в кухонном проеме. Она обернулась от холодильника, бросив на стол куриные голени.
– Я тебе… – покраснела и запнулась. – Я тебе то, чем очень хотела бы быть… – Она замолчала и внимательно на него посмотрела. – Понимаешь?
Он, сглотнув в волнении, хрипло ответил:
– А ты это самое и есть. Вот в этом уж, милая моя, можешь не сомневаться.
Она быстро отвернулась к плите.
– Тогда терпение и еще раз терпение! Через полчаса будут тебе куриные ноги. Кстати, с чем желаете, с картошкой или…
– С тобой, – ответил он и ушел в комнату.
– А я – с тобой, – прошептала она. Сама себе, он не слышал.
Он слышал. Плюхнулся в кресло и закрыл глаза. «Устал, – подумал Городецкий. – Как же я устал. Ведь недаром все нужно вовремя, тогда, когда на это есть силы».
Он задремал. Она вошла в комнату, села напротив кровати и стала смотреть на него, спящего. Резкие морщины во сне обозначились беспощадно. Так беспощадно, что у нее сжалось сердце. Словно почувствовав ее взгляд, он открыл глаза. И увидел ее лицо.
– Вот так-то, девочка, – тихо проговорил он. – А ты как думала?
– Я думала, что все остыло, – ответила она. – А разогревать ненавижу.
– Ага! – усмехнулся он, выбираясь из кресла. – Как же! Выкрутилась! Нашла кого провести вокруг пальца! Святая наивность! Грей давай! И без выкрутасов.
Он зашел в кухню и увидел, как она стоит у окна, упершись лбом в стекло.
Услышав его шаги, она обернулась:
– Сколько нам отпущено, Илюша?
Он отозвался:
– Кто знает, милая моя, кто знает… Страшновато играть в эти игры, верно? А я ведь предупреждал.
Она отерла слезу со щеки и строго прикрикнула:
– Ешь свои куриные ноги. А на гарнир, уж извини, – я, как и заказывал.
* * *Ночью он смотрел на нее. Во сне она казалась юной, совсем девочкой. Ладонь под щекой, розовая отлежанная щека, вспухшие губы, чуть вспотевший локон на лбу. И дыхание совсем детское, ровное, спокойное, сладко пахнущее. Он вдруг вспомнил, как однажды замер возле кроватки сына. Замер, чтобы слушать его дыхание. «Она любит меня такого, какой я есть, – пронзило Городецкого, – немолодого – и это очень мягко сказано. Усталого, разбитого и побитого, скучного, нищего, занудливого».
«Разве мама любила такого? – вспомнил он гениальные строки Ходасевича. – Желто-серого, полуседого. И всезнающего, как змея».
Мама, конечно, способна любить любого. А вот женщина… Даже святая Женя любила еще того Городецкого. Потому что тот Городецкий тогда еще был. Чуть-чуть, но был. О нем еще помнили, его еще любили и некоторые даже боготворили. Все еще боготворили… Да и мужчина Городецкий еще был тогда. Женьке он, конечно, достался тоже инвалидом по всем статьям, но бегал еще рысак Городецкий тогда, бил копытом! А эта дурочка – нищего, развалившегося на куски и части, вредного, скулящего и потерявшего веру во все… Можно не перечислять. За что, спрашивается? Не за что его любить. Он-то это знает! По утрам в зеркало на свою рожу смотреть противно… И все эти медицинские подробности… Противно.
А ведь рядом с ней, такой молодой и прекрасной, сейчас мог бы лежать мальчик. Молодой крепкий мужчина с мускулистым и гладким телом, свежим дыханием. Который без устали мог бы ласкать ее, нежную, до глубокой ночи. И просыпалась бы она на других простынях и в другом доме, с прозрачными от чистоты окнами и лесным пейзажем за ними. И кофе бы пила не из старой дулевской чашки в красный горошек, а из японского фарфора, тонкого и золотистого на просвет.
Зачем ей все это? Любовь, говорите? Да что она знает про эту любовь? Что она знает о предательстве, лжи, измене? О том, на что способен мужчина? Перечеркнуть – одним махом. Забыть – в долю секунды. Поставить на кон все и сразу – потому что захотелось. Повезло, пока не узнала. Пока. Бедная моя и глупая. А ведь любит. Его-то не проведешь… Чудны дела твои, Господи!
Утром Городецкий проснулся от страшной головной боли. За окном тяжело налились тяжелые свинцовые тучи. А через минут двадцать загрохотало так, что они в испуге бросились закрывать окна. Молнии разрезали небо пополам, как острый нож – брусок сливочного масла. Дождь хлынул, словно в оправдание многодневной и изнуряющей жары. Гром гремел, словно рвались снаряды. И голову разрывало на части. Да так, что в глазах потемнело и он, впервые в жизни, не на шутку перепугался.
Затошнило и заломило в боку и в груди. Страх, холодный и липкий, потек по спине густым потом.
Он лежал молча, крепко стиснув зубы. Анна засуетилась, побежала на кухню, намочила полотенце, чтобы положить ему на голову. Нашла остатки (с трудом набралось десять капель) выдохшегося валокордина. Крепко держала его за запястье, пытаясь сосчитать пульс. Требовала вызвать «неотложку».
Он сначала сопротивлялся, а потом сдался, кончились и без того малые силы. Да и ее стало жалко.
«Неотложка» приехала через полчаса. Врач, измерив давление, стал настаивать на госпитализации: криз, возраст, дело серьезное. Он жестко ответил «нет» и подписал бумагу об отказе. Она крутилась рядом, умоляла поехать в больницу:
– На два дня, Илюшенька! Обещаю тебе, на два дня!
Хватала за руки молодого врача, умоляла фельдшерицу уговорить его. Медики молча переглядывались и тяжело вздыхали. Потом фельдшерица предложила сделать ей укол: «Вам же будет легче, поверьте!»
Анна возмутилась, обиделась, расплакалась, разругалась с луноликой фельдшерицей, вытащила врача в коридор и начала ему жарко шептать что-то в ухо. Тот жестко приказал ей «взять себя в руки», измерил Городецкому давление, успокоился и начал собирать чемодан. Давление упало, помощь оказана, надо торопиться к следующим больным. Знаете, сколько пенсионеров реагирует на метеоусловия? При слове «пенсионеры» Анна задохнулась от возмущения а Городецкий усмехнулся:
– Правда, девочка! Куда от правды деваться!
Вскоре он, под действием уколов, крепко уснул. Успев подумать: «А ведь правда любит! Чудно…»
Два дня после этого она не давала ему вставать с постели, водила в туалет, требовала, чтобы он там не запирался. Терла на терке яблоки, варила бульон на третьей воде и каждые полчаса измеряла ему давление новеньким японским тонометром.
Он сопротивлялся ее заботе, сначала рьяно, потом вяло, понимая, что все равно останется в проигрыше. Плевался тертой морковью, прятал в ладонь таблетки и тихо ворчал:
– Надоело. Все прошло, и я вполне здоров.
Анна добилась кардиограммы на дому, сунув заведующей в поликлинике в нос журналистскую корочку. Кардиограмма оказалась не очень. Она уговаривала его отказаться от поездки. На это он показал большую дулю:
– Не выйдет! И не старайся!
Даже пошутил:
– Не поедешь, найду телку помоложе.
Через пять дней стали собирать вещи. Она – тщательно, он – равнодушно:
– Ненавижу сборы. Брось в чемодан пару маек, рубашку и шорты.
Такси в аэропорт пришло рано утром. Они сели в машину и взялись за руки. Их ждали море, белый песок, солнце, холодное вино, сладкие персики, ароматное мясо, снятое с углей, и темные, бесконечные и такие короткие ночи. Одно сплошное счастье. И ничего, кроме счастья.
Все остальное – потом.
Короче, полетели. Ура.
* * *Почему-то вспомнилось, как они летели с Ирмой на море. Куда? Конечно, в Сочи. Выбор был невелик. Он был влюблен в нее, а она позволяла ему быть влюбленным. Такая была тогда, в самом начале романа. Ирме было уже почти тридцать, а выглядела так, что все сворачивали шеи – на пляже, на улице, в ресторане.