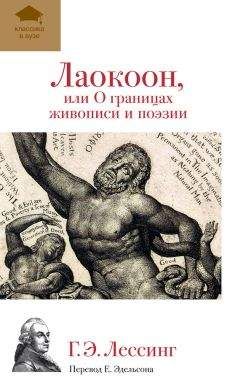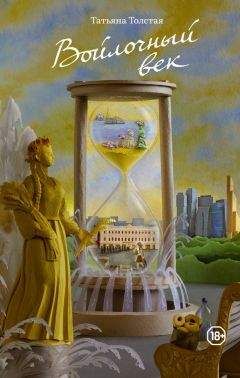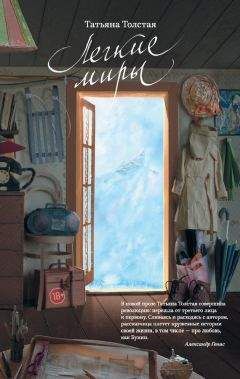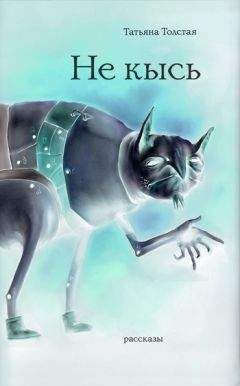Татьяна Толстая - На золотом крыльце сидели... (сборник)
И Василий Михайлович, со стиснутым от надежд сердцем, смотрел, как робкая Изольда, продрогшая до сердцевины, до ледяного хруста тонких косточек, бредет сквозь черную толпу, и заходит в ограду, и ведет пальчиком вдоль длинных пустынных прилавков, высматривая, не осталось ли чего вкусненького.
Северные бури развеяли, выдули изнеженных торговцев летним капризным товаром, теми сладкими чудесами, что сотворены в вышине теплым воздухом из розовых и белых цветов. Но неколебимо стоят, примерзнув к деревянным столам, последние верные слуги земли, угрюмо раскинув холодную свою подземную добычу; ибо перед лицом ежегодной смерти природа пугается, переворачивается и растет вниз головою, рождая напоследок грубые, суровые, корявые творения – черный купол редьки, чудовищный белый нерв хрена, потайные картофельные города.
И бредет разочарованная Изольда прочь, вдоль голубого забора, мимо галош и фанерных ящиков, мимо замусоленных журналов и проволочных мочалок, мимо пьяницы, протягивающего белые фарфоровые штепсели, мимо парня, равнодушно разложившего веер раскрашенных фотографий, мимо и мимо, печалясь и дрожа, и настырная баба уже крутит, и нахваливает, и чешет перед ее голубоватым личиком яркое шерстяное колесо, терзая его зубастой железной щеткой.
Василий Михайлович взял Изольду за руку и предложил выпить вина, и винным блеском сверкнули его слова. Он повел ее в ресторан, и толпа расступалась перед ними, и гардеробщик принял ее одежды как волшебное лебединое оперение феи-купальщицы, спустившейся с небес на маленькое лесное озеро. Мягкий мраморный аромат источали колонны, в полумраке мерещились розы, Василий Михайлович был почти молод, и Изольда была как диковинная серебряная птица, изготовленная природой в единственном экземпляре.
Евгения Ивановна почуяла Изольдину тень, и рыла ямы, и натягивала колючую проволоку, и выковала цепь, чтобы Василий Михайлович не мог уйти. Лежа с сердцебиением под боком у Евгении Ивановны, он видел внутренним взором, как на полночных улицах сияет снежный прохладный покой. Нетронутая белизна тянется, тянется, и вот – плавно повернула за угол, а на углу – розовым светом полное венецианское окно, и за ним Изольда не спит, вслушиваясь в невнятную городскую метельную мелодию, в темные зимние виолончели. И Василий Михайлович, задыхаясь во мраке, мысленно посылал Изольде свою душу, зная, что она дойдет до нее по сверкающей дуге, что соединяет их через полгорода, невидимая для непосвященных:
Ночными вагонами в горле стучит,
Накатит – и схватит – и вновь замолчит.
Распятый, повис над слепою дырой,
Где ангелы смерти звенят мошкарой:
«Сдавайся! Ты заперт в квадрате ночном,
Накатим – отпустим – и снова начнем».
О женщина! Яблоня! Пламя свечи!
Прорвись, прогони, огради, закричи!
И стиснуты руки, и скрючило рот,
И черная дева из мрака поет.
Василий Михайлович перегрыз цепь и убежал от Евгении Ивановны; они сидели с Изольдой, взявшись за руки, и он широко распахивал для нее двери своей душевной сокровищницы. Он был щедр, как Али-Баба, а она удивлялась и трепетала. Изольда ничего не просила у Василия Михайловича: ни тувалета хрустального, ни цветного кушака царицы шемаханской; все бы ей сидеть у его изголовья, все бы ей гореть венчальной свечой, гореть, не сгорая, ровным тихим пламенем.
Скоро Василий Михайлович выложил все, что у него было. Теперь очередь была за Изольдой: она должна была обвить его своими слабыми голубыми руками и шагнуть с ним вместе в новое измерение, чтобы молния, сверкнув, расколола обыденный мир, как яичную скорлупу. Но ничего похожего не происходило. Изольда все трепетала да трепетала, и Василию Михайловичу было скучновато. «Ну что, Ляля?» – говорил он, зевая.
Ходил по комнате в носках, чесал в голове, курил у окна, совал окурки в цветочные горшки, укладывал бритву в чемодан: собирался назад к Евгении Ивановне. Часы тикали, Изольда плакала, ничего не понимая, обещала умереть, под окном была слякоть. И чего нюни распускать? Вон взяла бы лучше и прокрутила мяса, котлет бы нажарила. Сказал: уйду, – значит, уйду. Что тут неясного?
Евгения Ивановна на радостях испекла пирог с морковью, помыла голову, натерла полы. Сорокалетие свое он отпраздновал сначала дома, а потом в ресторане, недоеденную рыбу и заливное они собрали в полиэтиленовые мешочки, и еще на завтрак хватило. Получил хорошие подарки: радиолу, часы с деревянным орлом и фотоаппарат ФЭД. Евгения Ивановна как раз давно хотела сфотографироваться на пляже в набегающей волне. Изольда не удержалась, подпортила юбилей: прислала какую-то дрянь в бумажке и стишки без подписи, детским почерком:
Вот на прощанье для тебя подарок:
Свечи огарок,
Шнурки от туфелек и косточка от сливы.
Вглядишься пристально и усмехнешься криво:
Такой была
Твоя любовь, пока не умерла:
Огонь, и легкий бег, и сладкие плоды
Над пропастью, на краешке беды.
Теперь-то ее давно нет.
И вот ему шестьдесят, и ветер дует в рукава, задувает в сердце, и ноги идти не хотят. Ничего, ничего не происходит, ничего нет впереди, да и позади, в общем-то, тоже ничего. Шестьдесят лет он ждет, что придут и позовут, и откроют тайное тайных, что полыхнет зарево на полмира, встанет лестница из лучей от неба до земли, и архангелы с тромбонами и саксофонами, или что там у них полагается, завопят неземными голосами, приветствуя избранника. Ну что же они медлят? Он ждет всю жизнь.
Он ускорил шаги. Пока Евгении Ивановне бреют шею, варят голову и загибают волосы железными крючками, он успеет дойти до рынка, выпить теплого пива. Холодно, шуба-то паршивая, одно название, что шуба – фальшивая шкура на ложном меху, купленная Евгенией Ивановной у спекулянтки. «Для себя-то крокодилов обдирает», – подумал Василий Михайлович. К спекулянтке – за крокодиловой обувью, шубой и другими мелочами – ходили под вечер, долго искали нужный дом. На лестничной площадке была тьма, шарили ощупью, спичек не нашлось. Василий Михайлович тихо ругался. С изумлением нащупал на одной из дверей глазок на уровне колена. «Правильно, значит, сюда», – шептала жена. «Что же она, на четвереньках ходит?» – «Она карлица, цирковой лилипут». С замиранием сердца он ощутил близкое присутствие чуда: за дерматиновой дверью, может быть, той самой, единственной дверью на свете, зияет провал в иную вселенную, дышит живая тьма и среди звезд парит, дрожа на стрекозиных крылышках, крошечный полупрозрачный эльф, звенящий, как колокольчик.
Карлица оказалась старой, бешеной, злой, руками трогать вещи не позволяла. Василий Михайлович искоса разглядывал кроватку с приставной лесенкой, детские стульчики, низко, над самым полом висящие фотографии, свидетельствующие о минувшей прелести лилипутки. Там, на снимках, стоя на крупе расфуфыренной лошади, в балетных пачках, в стеклянных цирковых алмазах, счастливая, крошечная, махала ручкой юная спекулянтка через стекло, через время, через прошедшую жизнь. А здесь, выхватывая из шкафов морщинистыми ручонками огромные взрослые вещи, метался взад-вперед злобный тролль, страж подземного золота, и от висящего над полом абажура Гулливером металась по стенам тень. Евгения Ивановна купила у страшной деточки и шубу, и крокодиловые туфли, и подмигивающий японский кошелек, и платок с люрексом, и шкурку песца на шапку, и пока, поддерживая друг друга, они нашаривали ногами путь вниз по темной лестнице, объясняла Василию Михайловичу, что песцовый мех надо чистить манной крупой, раскаленной на сухой сковородке, и что мездра воды боится, и что теперь надо купить полметра простой тесьмы. Василий Михайлович, стараясь ничего не запомнить, думал о том, какой была лилипуточка в юности, и можно ли лилипутам жениться, и о том, что если ее посадят за спекуляцию, какой большой и страшной покажется ей тюремная камера, и каждая крыса будет как конь, и представлял себе, как молодая спекулянточка сидит в мрачном зарешеченном замке, где лишь совы да летучие мыши, и как она заламывает кукольные ручки, и как стемнело, и как он крадется к замку с веревочной лестницей на плече через зловещий парк, и лишь луна серебряным яблоком бежит за черными сучьями, и лилипуточка припала к решетке окна и протиснулась между прутьев, прозрачная как леденец в лунном свете, и как он карабкается, обдирая пальцы о замшелые средневековые камни, а стража уснула, опершись на алебарды, а вороной конь внизу храпит и бьет копытом, готовый скакать по усыпанной опилками арене, по красному ковру, по кругу, по кругу, по кругу.
Время, отпущенное Василию Михайловичу, иссякало. Океан остался позади, а неизведанный континент так и не преградил ему путь, новые земли не выплыли из тумана, и он уже с тоской различал впереди унылые пальмы и знакомые минареты Индии, которых так жаждал просчитавшийся Колумб и которые означали конец пути для Василия Михайловича. Кругосветное путешествие, по всем признакам, заканчивалось: его каравелла, обогнув жизнь, подплывала с обратной стороны и уже вновь бороздила знакомые просторы. Проплыл знакомый райсобес, где на флагштоках развевались пенсионные, проплыл оперный театр, где Светланин сын, наклеив театральные брови, густо пропел о быстротечности жизни под громкие аплодисменты Евгении Ивановны. «Если встречу Изольду, – загадывал Василий Михайлович, – путь окончен». Но он хитрил: Изольды давно уже не было.