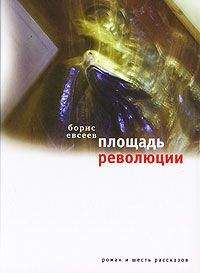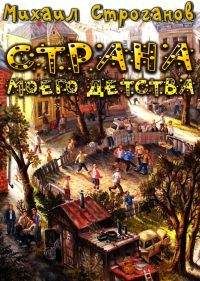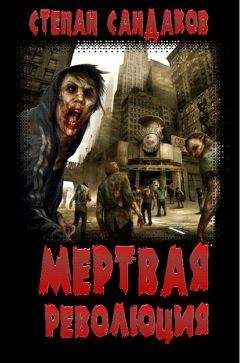Борис Евсеев - Площадь Революции. Книга зимы (сборник)
Староста церковный на миг задохнулся. Но тут же набрал побольше воздуху, выпалил:
– Все, что сказал отец Никодим, – верно. А только знай – есть среди собравшихся на даче и сработанные души, есть и оборотни с вурдалаками. Лесника и охотоведа нашего Рюманыча они окрутили. Стакан Рюманыч зовут. Ну, Степан Романыч. Поят его, а он их по ночам в лес возит. Якобы для изучения лесопосадок, а то иногда для охоты. А какие из них охотники? Рюманыча пьяного поперек аэросаней привяжут, а сами – люди наши видали – свинок диких портят! Кабанчиков малолетних угрызают. Как кинутся из засады! И подвывают, и урчат! Мигом кабанчику горло перегрызут, морду порвут – и бросят! Ну? Это к чему ж извращение такое? Охотишься – охоться. А рвать природу – не смей.
Про «сработанные души» Андрей мужичку в тулупе не поверил. А остальное – очень даже подходило.
Подождав, пока Невегласов уйдет вглубь церкви, тихо выскользнул он наружу. На свету сразу же глянул на себя: на ботинки, на плечи…
Вида человеческого он не имел.
«Нет, тут дело не в “сработанных душах”! Дело в другом. Ненасытные! Неподсудные! Отмороженные гады они – и все тут. Почувствовали: власти нет! Почувствовали: небо – пустое! Вот и обнаружились. И творят что хотят. А красочку запретную им скорей всего генерал покойный продал. Да и еще кое-что, наверное, продал… А навербовали их, вполне возможно, кавказцы, и денег они же дали. Сами в горах сидят, а эти здесь орудуют…
Стоп. Если бы кавказцы – то хоть один должен был показаться. А их, кавказцев, здесь нет как нет. Нет, наши это, свои. Но и на наших они не похожи. Демыч этот хилый… Носик тоненький, волосок из носу торчит, борода под ушами растет, лапки словно для цирка выкривленные… На кого все-таки этот Демыч смахивает? А его помощничек Аблесим, монгол этот поддельный?… Как же ты им на растерзание Волюна оставил?
Андрей тотчас вспомнил ночь, вспомнил всю, от ногтей до волос, Волю. И сразу пожалел, что так много говорил ночью. Однако после Волина тела вспомнился и сам разговор. Андрей отгонял его, а он лез и лез в голову.
– Меня, кстати, полностью Андреян зовут, – сказал он тогда Воле.
– Андреян… Это даже лучше, мягче, – улыбнулась она. – Но я тебя пока Андреем звать буду. Как в первый раз назвала.
Чтобы уйти от лирики, от женских охов-вздохов, он снова повернул на свое:
– Я тебе все про взрывы Вселенной, про революцию. А главное-то сказать забыл. Есть третий путь! Не революция и не эволюция!
– Это какой же такой третий?
– Путь Абсолюта.
– То есть – путь Бога?
– Не совсем… Я ведь… Я Бога тоже не отрицаю. Просто – не видел. А путь Абсолюта – это путь отторжения линейных – и земных, и даже Вселенских – законов пространства-времени. Сжатие всего сущего в Абсолют. Ну а потом, как я уже говорил, – взрыв! И так всегда и вечно: сжатие – взрыв! Взрыв – сжатие!
– И мы с тобой – искорки взрыва: падаем, кружимся. То прижмемся друг к дружке, то разъединимся…
– Ты смеешься… Но этот путь – более высокий, чем путь эволюций и «революций», – существует. Это путь сосредоточения и втягивания. И исчезновения в таком сосредоточении.
– Буддизм какой-то.
– Скорей – исихазм. Вообще – Византия! Если б ее турки не разгромили… О, это была бы великая, не эволюционирующая и не революционная страна! Целая планета перед воскрешающим взрывом: тысячелетнее затишье, сон.
– Да мы только что от гадкого такого застоя ушли…
– А придем, опять придем! И все придут, когда вред прогресса и вечно сопутствующих ему террора и революций узнают. Но ты, Волюн, пропустила ключевое слово: сон! Сон – есть форма и оболочка третьего пути! Сон тебя унес. Сон тебя рево– и эволюционизировал. Во сне тебя взрывали, а ты – на месте, ты возвратилась. Сон – вечное и лучшее состояние Вселенной и человека в ней. Не смерть и бессмертие: сон и просып! Нет в мире ничего важней пути сна.
– Заговариваешься, Андреянчик… Давай лучше не будем спать! Давай лучше…
– Да ты сравни только: уворованное пространство, натужное время – и мягкий, волшебный сон. Все поглощающий, все выравнивающий!
Воля потянулась всем телом. Забыв про слова, он снова прижался к ней головой, плечом…
Вспомнив все это, Андрей понял: сегодняшняя поездка в Москву отменяется. «Надо снова на дачу понаведаться».
Човгая уставшими от хождения по снегу ногами, он побрел назад, к генеральской даче.
Натанчик и Жорж
Бегство вольнонаемного и пленницы вызвало в Пустом Рождестве раздрай и гвалт.
Натанчик Гримальский скакал вокруг деревенского дубового стола, вызывал – не страшась последствий – Козлобородьку на бой:
– Ви должны! Ви обязаны! Ви как идеолог нашей партии обязаны объяснить элите партии – по чьей вине ми потеряли двух подготовленных, двух полностью обученных бойцов. И я как кандидат в депутаты таки требую…
– Это кто же их подготовил? Не вы ли? Нет, вы только посмотрите на этого злобного миноритария! Он – подготовил!
– Я! Да, я! Именно я провел огромную работу. Я стоял на шухере у Госдумы!
– У Госдупы?
– Ой, ну пусть будет так. Но словесное хулиганство вам, Козлобородько, на этот раз не поможет! Ви ответите за все перед Революцией.
– «Лубить, лубить революцию нужно», – передразнил Натанчика Козлобородько.
Становилось, однако, ясно: что-то Козлобородьку гложет. Понятно было и то, что побег двух бойцов «невидимого фронта» для его малочисленной и, как признавался самому себе Жорж, патологически трусливой партии – потеря крупная. Поэтому он не столько слушал прыгающего вокруг стола нового члена Реввоенсовета, сколько «пронизывал лучами дальнего ума» (так было сказано о Жорже в одной еще не утратившей типографской ломкости и свежести газетке) тревогу и грусть, обещавшие неприятности в будущем.
– Слушайте сюда, Натан Янович. Да бросьте выкобениваться, пся крев! И перестаньте вокруг стола бегать. Вы что – виагры наглотались? Так мы сейчас сюда Настену-крестьяночку выпишем. Сольетесь в экстазе с русским народом. Враз узнаете, что почем.
– Ви! Ви не рэволюцьенер. Ви – провокатор! Ви знаете, что моя цель – после новой революции – жениться на русской крестьянке, жить в глуши, вдали от центров… Знаете, что я славянофил. Хоть и не русских корней… И позволяете себе… А ви, ви сами? Как ви обделали – прямо-таки жидким стулом – русский крестьянский вопрос? В этой самой газетке «Хрен вам!» Припоминаете? Вы – пиратская копия с настоящего рэволюцьонэра. Проклятие дню вашего рождения и ночи вашего зачатия! – крикнул, воспаляясь от речей своих все больше и больше, Натанчик. Правда, последние слова почти застряли у него в горле.
– Ну будет, Натан Янович, будет, – вполне примирительно сказал Козлобородько. – Я ведь давно вычислил, куда эти двое могли подеваться. И мы с вами по Подмосковью шарить не будем, искать их тут не будем. Мы их в Москве перехватим.
– В Москве? Это где же? Москва, она – ухх! Большая!
– А помните, говорил вам: не только люди из вашей бывшей партии на станцию «Площадь Революции» наведываются!
– Ну и наведываются, и что тут такого? Революцию в Москве многие ждут, многие предчувствуют. Лубить, лубить революцию нужно!
– Вот-вот. И я так думаю…
Тут Козлобородько подступил к Натанчику вплотную, кругля обложенные бесцветными ресничками и предательски седыми бровями глаза, зашипел ему что-то в ушную раковину…
– Ви! Ви же – настоящий гений! Ви – злой гений новой русской революции! Боже ж ты мой! Как плодотворно ваше зло! И какой я был слепой со своей жалкой добротой! Скорей! Завтра же! Нет, сегодня!.. Злее, злее, веселее! Веселее, злее, злее!
– Настену! «Настену сверху смотрящую» – сюда! – крикнул в закрытую дверь, доходя до экстаза и взбираясь в ботинках на широкую деревенскую кровать, Козлобородько. – Крестьянский вопрос решать будем! Пусть стены нашего сортира украсят юмор и сатира!
Вскоре прибыла и «Настена сверху смотрящая». Была она вовсе непохожа на остальных – затурканных и вялых – жителей Пустого Рождества.
– Ну? Кто тут и чего отведать желает? – глянула справная девка Настена, налитая и жирком и гневом, с высоты баскетбольного роста на забившихся в угол кровати партийцев. – Я тебя спрашиваю, жеребец стоялый, – рыкнула она на Жоржа и стала сдирать с себя полушубок, потом грозно разорвала на груди мужскую, туго вправленную в юбки рубаху…
Часть III
«Площадь Революции»: накануне
«До взрыва – три минуты».
Она глянула на часы, поднялась, потом снова, там же, на перроне, опустилась на скамеечку.
Мимо нее в сторону «Речного вокзала» шли нелюдные вечерние поезда, прошумел, на лету воркуя, а потом забился в какую-то архитектурную щель и там успокоился голубь-турман.
Все сегодняшнее утро помнилось детально, ясно. Но еще ясней помнился вечер предыдущего дня. Помнилось, как сквозь оконные ставни тихим криком пытался докричаться до нее Андрей. Как шуганула его охрана, как Демыч через минуту уже орал: «Темнеет же! За ним, на улицу! Не упустите мне его, суки!..»