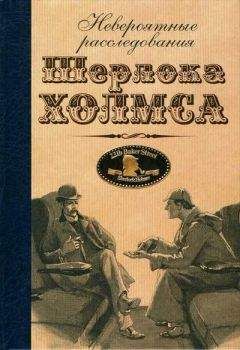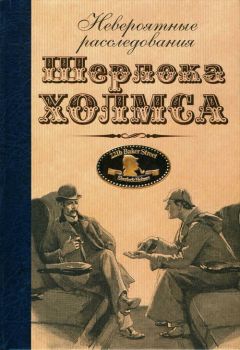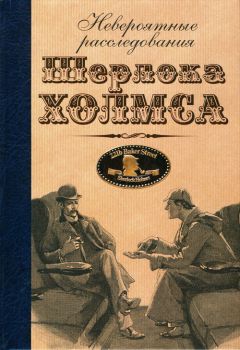Борис Акунин - Счастливая Россия
Капитан, вспоминая, поежился, будто ему стало зябко.
– Ага, ушел он… Только мы из машин гурьбой вывалились, под яркий свет фонаря – сзади, из темноты: бабах! бабах! бабах! Знал, гадина, что приедем и что нападения ждать не будем. Перепозиционировался за дровяной штабель. Ждал. Сажал густо – думаю, с обеих рук. И метко! Одного вчистую, начальника нашего отделения, троих тяжело и еще двоих зацепил, в том числе меня, вот сюда. – Шванц шлепнул себя по толстой ляжке. – Мы все врассыпную, кто куда. Я за мусорку прыгнул, железную. Высунул руку с наганом, давай шмалять в темноту. Другие тоже стреляют. Долго палили, пока комендантские на грузовике не подкатили. Но очкарика нашего, конечно, давно след простыл. Отстрелял обоймы и сразу свинтил. Потом, агентурным путем, выяснили: никакой это был не интеллигент, а матерый ровсовский боевик капитан Сокольников, из-за кордона. Вот какие раньше были враги.
Шванц повздыхал.
– Конечно, это значит, что хорошо мы поработали. Крепко почистили население. Ты вот думаешь, зачем оно всё, вот это? Ну, аресты, посадки, спецдопросы, расстрелы? Зачем? Ведь не врагов берем, а кого придется – сам знаешь. Притом часто берем безо всякой системы, непредсказуемо. Сверху, снизу, партийных, беспартийных, военных, гражданских, нацменов, спортсменов, молодых, старых. Почему, ты понимаешь? Это я в продолжение того нашего разговора.
– Партия так решила. Ей видней.
– Не партия, а Сталин. Он почему вождь? Потому что секрет знает. Понимает, что русский человек без животного страха ничего делать не станет. Животный страх – это когда боятся не разумом, а животом. Увидели сотрудника органов – и живот схватывает.
И опять показалось, что Шванц говорил не с Филиппом, а сам с собой.
– Каждый без исключения должен знать и чувствовать: у нас невиновных нету. Наверху решат – и ты виновен, кто ты ни будь, хоть нарком, хоть десять раз герой. И сделать могут что угодно – и с тобой, и с женой, и даже с детьми. Вот тогда в население и входит настоящий животный страх. Почему Ягоду сняли и Ежова поставили, хотя Ягода был ловкач и мастер, а Ежов в чекистском ремесле – пустое место? Потому что от Ягоды страха было недостаточно. Вот и пошел сам на растопку, чтоб верхушка НКВД тоже тряслась. А Ежов вселять страх ого-го как умеет. Про «Ежовы рукавицы» слыхал? Говорят, это Хозяин сам придумал. Сначала придумал, а потом, под поговорку, уже наркома подобрал.
«Напишет потом, что для проверки обзывал при мне наркома обидными словами, а я не просигнализировал, – вот что стучало сейчас в голове у Филиппа. – Самому подать рапорт? Но кто я без товарища Мягкова? Сжует меня Шванц и выплюнет…»
Пока он так мучился, начальник топтал ковер, разглагольствовал дальше.
– Крепка та система, в которой нет ничего страшнее начальника. Не Самого Главного Начальника – он далеко, его народу любить надо, – а ближайшего, непосредственного. И чтобы тот тоже своего начальника трясся. А тот – своего. Только тогда из России может толк выйти. А без страха русский человек либо разбалтывается – если дурак, либо начинает воровать – если умный. Почему армия в империалистическую войну так паршиво воевала? Страха перед начальством не было, вот почему. При Суворове, при Кутузове, при Ермолове страх был. Не явит солдат доблесть – шкуру с живого сдерут. А при Николашке малахольном чего было бояться? Вот и драпали. Ну а уж когда «временные», идиоты, в семнадцатом году смертную казнь отменили – тут армия и вовсе развалилась. Нынешняя большая чистка в РККА для этого и производится: тухачевшину истребить. Умный солдат не нужен, инициативный командир тоже. Командир должен одно: так начальника бояться, чтоб любой приказ любой ценой. А солдат, в свою очередь, должен этого командира бояться больше, чем вражеских пулеметов. Те еще, может, промажут или только ранят, а этот точно к стенке поставит. Вот какую Сталин строит армию. Потому он и великий вождь… А, доставили.
Это звякнуло дверное кольцо – два раза и, после паузы, еще два. Так стучал конвой.
Кролль на вид оказался моложе, чем ожидал Филипп. На седьмом десятке человек, опять же помордовали его немало, а стариком не назовешь, даже несмотря на седую щетину, которой одинаково обросли бритая башка и небритая физиономия. Или, может, дело во взгляде. У стариков он медленный, тусклый, как двадцатисвечовая лампочка, а у Кролля глаз был острый, хваткий. Ишь, шурится, будто на мушку берет, подумал Бляхин, но потом заметил, что у подследственного на переносице вмятая полоска, и сообразил: Кролль шурится по близорукости – стеклышки-то у них отбирают.
– А-а, Сергей Карлович, ждем-ждем, – весело сказал, раскачиваясь на каблуках Шванц. – Обсуждаем вас, удивляемся нелогичности вашего поведения.
Арестованный коротко посмотрел на капитана и стал разглядывать Филиппа – сверху вниз, снизу вверх и потом только уже на лицо: лоб, глаза рот. Будто на окорок примеривается, откуда кус отрезать, пришло в голову Бляхину.
– В чем же нелогичность? – спросил Кролль ленивым голосом, еще секунду-другую пошарил взглядом по Филиппу и отвернулся к Шванцу.
– Кончали бы вы ломаться, а? Ведь ни в бога, ни в черта не верите. Потомки, архив. Вы же умный человек и циник. Такой же, как я. Не понимаю, на кой вам это надо? Лишние допросы, побои, а конец ясно какой. Или вы извращенец? Мазохист? Получаете удовольствие, когда вас мучают?
– Не без того. – Контрик был худой и высокий, выше капитана чуть не на голову и глядел на него, словно с балкона. – Хочется, знаете, напоследок себя испытать. Повысить уровень самоуважения. Если уж уходить из жизни раньше положенного срока, так в состоянии душевной гармонии. Что до побоев и прочего, тут тоже не без пользы. Когда болит всё тело, не так обидно умирать. А насчет циника – да, я циник, но не такой, как вы. У меня цинизм – форма, у вас – содержание.
– Гляди, Бляхин, как я его раззадорил. Глазенки засверкали, – усмехнулся капитан. – Изображает, что я для него тля, а ненавидит. Разве тлю ненавидят, Сергей Карлович? Признайтесь, если б ваша взяла, вы бы меня сразу к стенке поставили, да? Без интеллигентского гуманизма?
Кролль наклонил голову, словно изучал Шванца и решал его участь.
– …К стенке – нет. Всякая живая тварь имеет право на существование. Посадил бы пожизненно в одиночную камеру. Такого опасно подпускать к людям.
Начальник засмеялся.
– Принимаю за комплимент. Люблю эти наши пикировки. Ладно, Бляхин, приступай. Клиент твой. Я в уголке посижу, не обращайте на меня внимания. – Широким жестом показал на Филиппа. – Знакомьтесь, Сергей Карлович: оперуполномоченный Бляхин, ас допросного дела. Его, как меня, не заболтаете. Он вас в два счета расчикает.
Издевается, сволочь, тоскливо подумал Филипп, но внешне своей тоски никак не показал – наоборот, расправил плечи, подтянул пряжку, сдвинул брови, сел за стол.
– Сюда. – Сурово показал на стул.
– Ну-ну, – сказал Кролль. – Бляхин так Бляхин.
Самому проводить допрос Филиппу никогда еще не приходилось, тем более в присутствии начальства, поэтому он решил действовать строго по методичке. Сначала помариновал подследственного: листал дело, хмурил брови, зловеще покачивал башкой. Однако Кролль не особо мариновался – скоро донесся звук зевка.
Зевал арестант не как интеллигенты зевают, деликатно прикрывая рот ладошкой, а во всю пасть – Бляхин даже разглядел, что зубы с одного бока у него вышиблены, там запекшаяся корка и осколки торчат.
Тьфу! Отвел глаза.
Первые вопросы, согласно науке, должны касаться чего-то, уже установленного на предыдущих допросах. Чтобы объект, готовый к напору, малость расслабился.
– Расскажите, Кролль, как вы стали участником контрреволюционной организации.
И придвинул папку с делом, как бы готовясь сверять показания с прежними.
– С удовольствием. Это приятно вспомнить. – Развалился, наглая морда. Даже ногу на ногу закинул. – Сижу однажды в парке Эрмитаж, на скамейке… Точного числа не назову – конец октября прошлого года, я полагаю. Во всяком случае юные комсомольцы-физкультурники там тренировались строить пирамиду перед 7 ноября, а я на них смотрел. Знаете, это когда друг дружке ногами встают на плечи и даже на макушку – сооружают живую башню из человеческих тел. Сижу, значит, я, наблюдаю. Лица без признаков интеллекта, уровень общения, шуточки – ну, вы можете себе представить. Мысли при этом шевелятся небесприятные. Мне, думаю, уже за шестьдесят и жить на этой неаппетитной планете осталось не так долго. Помру – и ну вас, кретинов, в черту с вашими пирамидами и кумачовыми лозунгами. Тут подсаживается пожилой человек приличной наружности. Сначала поглядывает на меня искоса, молча. Потом вдруг говорит: «Так не бывает». Я ему: «Что, простите?» Он говорит с мягкой улыбкой, словно мы сто лет знакомы и продолжаем прерванную беседу: «Человеческий мир устроен так, что, сколько ни вытаптывай мозг и душу, у кого-то они все равно останутся живыми и свободными. Обязательно! В том числе и у кого-то из этих бедных молодых коммунаров. Или жизнь уму научит, или разум проснется сам. Сколько живую землю ни мости, трава все равно прорастет, а асфальт растрескается». В общем, затеял мой сосед такой, прямо скажем, не уличный разговор. Я спрашиваю: «А почему вы решили, что со мной можно подобным манером разговаривать?» Он отвечает: «Лицо. Взгляд».