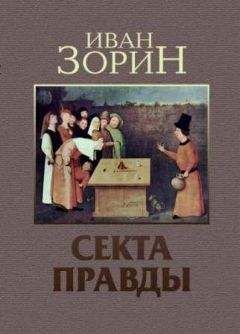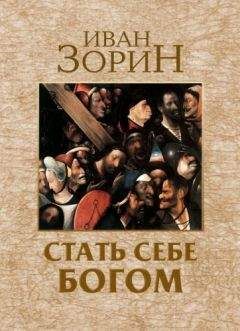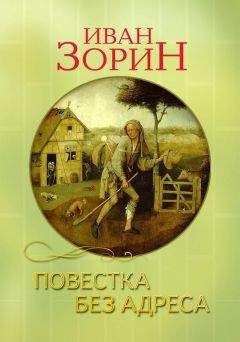Иван Зорин - Аватара клоуна
Егор закашлялся, поднеся кулак, покосился на могильные кресты, о которые чистили клюв чёрные грачи.
– Когда кажется, крестятся, – беззлобно вставил Корней. Егор вздохнул:
– Мне иногда так кажется…
– Хочешь спать – не прислушивайся к шорохам, – осадил его Корней. Но обращался он больше к себе: – Всю жизнь не загадаешь, как будет, так будет…
И вынув из кармана гребень с набившейся перхотью, стал вычёсывать упрямые колтуны.
Они лежали под развесистой липой и считали падавшие сверху жёлтые листья.
– Дурная примета, – поглядел на дорогу Егор Бородуля, – вёдра-то пустые…
И решил, что день не сложится.
– Надо же, толстуха, – согласился Корней Гостомысл, – от неё, небось, и зеркало трещит.
Распластав руки по коромыслу, мимо огороженных могил проплыла деревенская баба. Остановившись, она высвободила пятерню и перекрестилась на сугробики жухлой листвы, разделявшие могильные плиты:
«Егор Бородуля» от «Корней Гостомысл».
Глухо вскрикнула птица и, захлопав крыльями, тяжело снялась с ветки.
Посмотри на ближнего своего
«Провожающий – не попутчик», – покачал головой Харитон Скуйбеда, оправляя рясу и закрывая на ключ Библию в железном окладе.
Разломив хлебную корку, он мелко перекрестился и принялся за постный монастырский суп, то и дело стряхивая с усов чёрствые крошки. Когда он остановился перевести дух, у Иакинфа Сачурина, игравшего его роль, закололо под ложечкой. На другой день боль повторилась, Иакинф сдал анализы, которые оказались «плохими», и он, так и не успев перевести дух, очутился в корпусе для неизлечимых.
Сачурин был из тех, кто убегал от своего времени, но оно вилось кругами и, настигая, норовило заглянуть в лицо. Ему было за пятьдесят, у него была жена и свой круг, из которого он вдруг выпал, как птенец из гнезда. В больнице его окружили случайные, бесконечно далёкие от него люди – он видел таких через стекло автомобиля, а теперь судьба свела их в одной палате, подвешенной между жизнью и смертью.
«Нашего полку прибыло…» – с молчаливой издёвкой встретили его. И Иакинф понял, что к другому, как к отражению в зеркале, можно бесконечно приблизиться, но слиться невозможно.
Дни прилетали, как галки, – каждой было место на заборе, и только его галке не хватало палки. «Мы выкарабкаемся!» – при свиданиях в вестибюле храбрилась жена, промокая ему виски платком. Она раскладывала на кресле промасленные свёртки, точно сорока, передавала приветы и, перескакивая с пятое на десятое, не замечала, что стала чужой. Ссылаясь на недомогание, Иакинф спешно целовал её в лоб и, удаляясь по сырому, пахнущему аптекой коридору, кусал до крови губы, едва сдерживая ненависть к этой здоровой, пухлой женщине, роднее которой у него никого не было.
«Возлюби ближнего своего, – мерил он шагами пролёгшую между ними пропасть, – возлюби ближнего своего…»
У себя на Кавказе Бек-Агабазов жил на широкую ногу. «Рано или поздно перестаёшь быть мужчиной, – скаля острые зубы, любил повторять он за бокалом вина, – если почувствую, что сдаю – вот… – Он снимал с пальца турецкий перстень и, отворачивая камень, показывал яд. – Если родился горцем, нужно им быть до конца…» Женщины притворно ахали, прикрывая ладонями рты, мужчины хлопали его по плечу. Он умирал три года, измучив родственников и потратив состояние на знахарей. Он скупал чудодейственные, писанные на пергаменте рецепты, в которые заворачивал сушёные травы, и глотал их натощак. Ночами, уставившись в больничный потолок, он, будто покойник, складывал руки поверх простыни и нервно крутил перстень. Его посеревшее лицо наливалось кровью, он начинал задыхаться и, не выдержав, звал сестру. Закатав рукав, та колола успокоительное и возвращалась на пост, так и не заметив, что просыпалась.
Через месяц после выписки Бек-Агабазова, истаявшего, как сосулька, похоронили вместе с его лекарством от жизни. Он так им и не воспользовался: перстень болтался на исхудавшем, прозрачном мизинце, согнутом, как клюв хищной птицы.
Навещали Сачурина и актёры из театра. Когда-то он им радовался, теперь не хотел видеть и отговаривался процедурами. Был конец лета, солнце пригревало допоздна, и сквозь прутья в заборе они видели посреди больничного двора грубо струганный стол, за которым Иакинф, игравший философов и королей, стучал слепыми костяшками домино. В грязном, поношенном халате он находился среди своих, и актёры понимали, что вчера они были попутчиками, а сегодня стали провожающими.
«У смертников своё братство, – недоумевали они дорогой, – отчего же смертные так не любят собратьев?» Жизнь для умирающих, что журавль в небе.
Когда привезли Аверьяна Богуна, он обводил всех растерянными, бегающими глазами.
– Правда, от этого не умирают? – с детской наивностью обратился он к усатому санитару, толкавшему его каталку.
– Мы люди маленькие – угрюмо отмахнулся тот.
Свою болезнь Богун готов был обсуждать даже с уборщицей, его сторонились, и он целыми днями вышагивал по коридору, как привидение. Диагноз ему ставили долго, и всё это время слышали, как, закрывшись в уборной, он судорожно всхлипывает. «Ну что ты, как баба, – не выдержал его сосед, которого обследовали так же долго, – рано ещё нюни распускать». Их приговорили в один день. Прекратив цепляться за таблетки, Богун сразу стал равнодушно холоден. Он вдруг вспомнил, как мальчиком, приехав в деревню, смотрел из окна: была ранняя весна, и собака на снегу ела конские лепёшки. Обогнув навозную кучку, к ней сзади, забросив на спину лапы, пристроился дворовый пёс, а собака, не поднимая морды, продолжала есть. Тогда Аверьяну сделалось мерзко, растирая глаза, он бросился в ванную смыть увиденное, а теперь ему подумалось, что это и есть жизнь. «Смерть придёт – не увидим», – отвернувшись к тёмному окну, надолго замолкал он. А ночами слушал, как сосед, ворочаясь под одеялом, не находил себе места на скрипучих пружинах и, когда не плакал, беспрерывно хрипел: «Смерть, смерть…»
Женились Сачурины по любви, завели детей и за двадцать лет не скопили друг от друга тайн. А теперь Иакинфа злили её крашеные губы, заплаканные глаза с поплывшей на ресницах тушью, его раздражала её преданность, бессмысленное желание остаться близкой, он понимал, что она ни в чём не виновата, и от этого злился ещё больше. Жизнь берёт своё, смерть – своё: жена оставалась на подмостках, он – за кулисами. Как и все в палате, он уже смотрел на мир с той стороны и, принимая передачи, делился ими с людьми, которых неделю назад не знал. Теперь у них была своя стая: волки, угодившие в капкан, они выли на прошлое, одинокие, как луна в небе, тёрлись спинами и ставили на то, кто кого переживёт. С лицами, пожелтевшими, как страницы давно прочитанной повести, они больше не верили в себя, убедившись, что у судьбы в рукаве всегда лишний козырь.
В полдень, размечая больничные будни, приходил психолог, щурясь от собственных слов, пел Лазаря, а под конец, обведя вокруг руками, советовал:
– Главное – не замыкаться в этих стенах – есть телефон…
– Телефон есть – звонить некому, – обрезал Иакинф. Ему было страшно и бесконечно жалко себя.
Попав в земное чистилище, Иакинф перечеркнул прежнюю жизнь. Теперь она сморщилась, как мочёное яблоко, и ему стало казаться, что истина бродит здесь, среди пригвождённых к больничной койке.
«Кто ближе своего „я“? – вспоминал он монолог Харитона Скуйбеды, возражавшего Евангелию. – Перед смертью ближние становятся дальними, смерть разлучает не с ними, но с собой…»
Эти мысли предназначались для глухого подвала. Однако ересь не мыши, чтобы водиться в монастыре: к Харитону подступали бритоголовые стражники с колокольчиками в ушах, и он, схватив со стены тяжёлое распятие, отбивался от них, как от бесов. Но постепенно они одолевали: повалив на живот, вязали, прижимая щекой к полу. Харитон уже слышал над висками тихое позвякивание колокольчиков, и тут Иакинф, суча ногами, сбрасывал одеяло на пол.
«Да нет ещё, – не открывая век, различал он над собой перешёптывание санитаров, – спит…»
После отбоя лампочки светили тускло, в полнакала, и по нужде ходили, как тени, боясь оступиться на скользком полу. Пьяные от бессонницы, горбились на стульчаках, тайком от сиделок курили, плели друг другу небылицы или, безразлично уставившись в стену, обменивались молчанием. Составив вниз цветочные горшки, в этот раз на подоконнике болтали ногами восточные люди.
– Йог Раджа Хан состарился в медитации, – как по писанному чеканил один, с громадным, нависшим над губами носом. – Перебирая чётки из вишнёвых косточек, он беспрерывно молился и однажды увидел Брахму. Тот сидел на троне, сияя, как лотос, а вокруг простиралась тьма. «Приблизься!», – безмолвно приказал Брахма, и Раджа Хан увидел, как между ним и троном пролегли его чётки. Осторожно ступая, он двинулся по ним, считая кости шагами, как раньше – пальцами. Боясь повернуть голову, он всё время смотрел на свет, исходящий от Брахмы. «Дорога из чёток узка и ненадёжна, – свербило в мозгу, – сколько раз чётки рассыпались, когда рвалась верёвка!» От этих мыслей у него закружилась голова, не удержавшись, он глянул на зиявшую по сторонам бездну. «Не бойся!» – поддержал его Брахма. Раджа Хан вскинул голову и, преодолев страх, медленно двинулся вперёд…