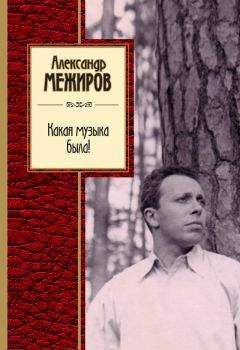Владимир Мощенко - Голоса исчезают – музыка остается
Чуть ли не до утра говорил он о своём Достоевском, о его Петербурге, о его живописи и философии.
А занялся рассвет – сказал:
– Идём ко мне. Посиди у меня пару минут. – В его комнате горела лампочка под невзрачным абажурчиком, облепленная со всех сторон мотыльками. Он открыл тумбочку, вытащил оттуда бутылку с прозрачной чачей. – Будешь? Ну, как хочешь. У меня не идут из головы стихи Лёни Тёмина: «Разбивается сердце, когда не под силу одолеть ему тяжесть обиды и бед. И уходит в себя человек, как в могилу, и, затихнув, живёт ещё множество лет. А бывает – дробится на мелочи быта и пустеет – могущее космос вместить. Но снаружи не видно, что сердце разбито, и кругом говорят: меньше надо бы пить…»
4
Он уже ощущал в себе приступы «русской болезни». Как-то я полюбопытствовал, годы спустя, когда он успевает писать стихи, и он, не задумываясь, ответил: ты бы, мол, лучше спросил, когда я успеваю пить. Ну вот… Он опять поставил бутылку, но не в тумбочку, а под кровать.
– А цикады? Слышишь, как свиристят?..
Из Квишхети – и его шедевр «Цикады».
Без таких стихов нет русской поэзии.
Я думал – рассветные птицы поют,
А это цикад свиристенье.
Внушает им пенье их тёмный уют,
Дрожащие ночью растенья.
А я пробудился. Как будто в окне
Большая заря наставала.
А было черно. И подумалось мне:
Лишь этого недоставало.
Но так и случилось. В оконный проём
Шумели кусты-невидимки.
И думал я долго о прошлом твоём,
Что в бедной скрывается дымке.
От этого зябко щемило в груди,
И будущее закрывалось
Всем тем, что угасло давно позади,
Но всё ж позади оставалось.
И всю эту влажную южную ночь
С открытыми спал я глазами.
И было уже мне мириться невмочь
С бездомными их голосами.
Но вот они смолкли, зажав в кулачке
Рассветной росинки монету…
И снилось тебе о домашнем сверчке,
Которого всё ещё нету.
У Владимира Соколова немало превосходных переводов с грузинского (кое-какие, к сожалению, остались не доведёнными до конца). Евгений Витковский в своей антологии «Строки века – 2» верно заметил, что грузинские поэты были счастливы, если Володя, чья популярность ширилась с каждым днём, брал у них подстрочники, консультировался с ними по поводу тонкостей ритма, интонации, неясных для него словосочетаний. Одной из его удач в этой работе были переводы из Ладо Сулаберидзе. Вот хотя бы «Западня», и первые строчки здесь такие: «Вспомнится – подступят к горлу слёзы. Ничего уже не изменю». Это очень близко к моему нынешнему, стариковскому восприятию прошлого…
5
А как прошла наша первая встреча? Мне в редакцию позвонил Шура Цыбулевский:
– Давай выходи к книжному магазину напротив оперного театра. Мы с Володей Соколовым тебя ждём. Хочу, чтобы вы познакомились.
Через пять минут я уже пересёк проспект Руставели и был рядом с ними. Так вот он какой, Соколов. Элегантный. Без намёка на небрежность, хотя почти мальчишка, лишь на четыре года старше меня. Уже тот, кто в золотое время суток ждёт золотого слова («потому что не до шуток в пятьдесят шестом году»). Не терпящий пошлости, насилия над собой, умеющий слушать нищих, но не пустословов. Он был не из тех, кто легко сходится с любым человеком. Если кто-то очень не нравился ему из-за глупых шуток, лицемерия, банальщины, он прямо говорил:
– Вы мне неинтересны.
А если (например, в ресторане ЦДЛ) его намёк «не понимали», сам поднимался из-за стола и пересаживался за другой стол.
Он спросил, как величать меня по отчеству.
– Николаевич, – ответил я.
– Надо же, – попытался улыбнуться он. – И я – тоже. И коллекционирую Владимиров Николаевичей. В этой коллекции уже – Ильин, Войнович и Корнилов.
Пошли в подвальчик «Воды Лагидзе». Взяли хачапури по-аджарски и пару бутылок шампанского. Здесь было прохладно, нешумно и уютно. Володя присматривался ко мне. И попросил Шуру:
– Прочитай, пожалуйста, свой последний перевод. Ну да, из Морица Поцхишвили. По-моему, очень сильно.
Тот охотно согласился.
И я услышал:
Последнее стихотворенье
Своё – никому нарасхват!
Так пулю, попав в окруженье,
Себе оставляет солдат.
И я называюсь солдатом
И не покоряюсь врагу.
Последняя пуля – стаккато,
Её для себя берегу.
И солнце – моё песнопенье,
Во тьму переходит – любя.
Последнее стихотворенье —
Последняя пуля – в себя.
И Володя вдруг поинтересовался:
– А Шуру печатают в вашей газете?
Нет, Шуру у нас категорически не печатали – ни одной строчки, даже его переводы были под запретом. Главный называл его декадентом. У него на то были свои причины. Ведь Цыбулевский смолоду хлебнул лиха: его выдворили из Тбилисского университета за недонесение о «подрывной» деятельности подпольной студенческой организации «Смерть Берии»; хуже того, «дело» Шуры в сорок восьмом рассматривал военный трибунал войск МВД, приговоривший его к десяти годам лагерей. В уже упоминавшейся книге «Жрецы и жертвы Холокоста», между тем, говорится о нём едва ли не презрительно: «В те времена Шура Цыбулевский, возможно, следуя своему кумиру Осипу Эмильевичу, изо всех сил убегал от хаоса иудейского, сгустки которого, как я понял впоследствии, живут в душе почти что каждого еврея. И проза, и стихи его были трогательно несамостоятельны, похожи своей бессвязностью и разноцветностью на переливы калейдоскопа, наполненного осколками стекла, обрывками получувств и ощущений, в которых то и дело вспыхивали мандельштамовские искорки». Что тут скажешь…
Владимир Соколов нашёл бы – что сказать. Обратимся к отрывку из его поэмы «Алиби»: «Мы, пленные, стараемся равняться,/ друг друга выпираючи вперёд./ А рядом вишни, яблоневый сад,/ искусственный бассейн, флагшток, палатки./ „Р-равняйсь!“ – как на линейке. Здесь вчера/ был пионерский лагерь. СТЫД. Жара./ И так по-свойски, буднично: „Евреи/и коммунисты, шаг вперёд“. И Додик,/ как кто-то рядом, сделал шаг. Вперёд./ Тогда я тоже сделал шаг вперёд…»
Помимо Соколова, высокого мнения о Шуре были и Межиров, и Белла Ахмадулина. Белла подарила Цыбулевскому и Гие Маргвелашвили стихи:
Я знаю, всё будет: архивы, таблицы…
Жила-была Белла… потом умерла…
И впрямь я жила! Я летела в Тбилиси,
где Гия и Шура встречали меня.
О, длилось бы вечно, что прежде бывало:
с небес упадал солнцепёк проливной,
и не было в городе этом подвала,
где б Гия и Шура не пили со мной.
Как свечи, мерцают родимые лица.
Я плачу, и влажен мой хлеб от вина.
Нас нет, но в крутых закоулках Тифлиса
мы встретимся: Гия, и Шура, и я.
Счастливица, знаю, что люди другие
в другие помянут меня времена.
Спасибо! – Да тщетно: как Шура и Гия,
никто никогда не полюбит меня.
Соколов сказал мне, что и Булат Окуджава относился к Шуре по-братски, любил и его самого, и его стихи. Именно Цыбулевскому посвятил он свои широко известные песни «На фоне Пушкина снимается семейство» и «Былое нельзя воротить». А Евгений Евтушенко, который дружил с Шурой, с радостью включил его стихи в антологию «Десять веков русской поэзии», сопроводив их сочувственной заметкой об авторе и такими вот строчками: «Он ни троцкистом не был, ни эсером, а всенациональная душа бессталинским была СССРом, Пшавелой и Ахматовой дыша». Я не мог не вспомнить Цыбулевского в романе «Блюз для Агнешки» и, кроме того, помянул его в стихах:
Ну открой же тайну мне, открой.
Ну хоть намекни, по крайней мере:
Где же ты? В ущелье над Курой?
В Вардзии? И скрылся там в пещере?
Но в какой? Хоть строчкой подскажи.
Может быть, напрасны эти страхи.
В городе подземном этажи
Возвели давным-давно монахи.
Ты любил в духане пить вино —
Так зачем же засиделся в келье?
Там погасли свечи. Там темно.
Чем тебя прельстило подземелье?
Этот факел не тебе несут.
Надо поскорей перекреститься.
Ты у фресок – там, где «Страшный суд»,
Где Тамара всё ещё царица.
Мы часто бывали втроём – Володя, Шура и я. Володе нравилось, что Цыбулевский в своих стихах, будто в консервных банках, хранил… дым домашних очагов. «Можно различать оттенки запахов», – говорил он. Это была высокая похвала, а Володя не очень часто хвалил стихотворцев! Его привело в восторг Шурино высказывание: «Гром. Гром покатил. С чем его сравнивали до колесниц, до телег? – ведь не с чем! И колесо выдумали, и колесницу изобрели благодаря грому…» И с первого раза запомнил его строфу: «Ах, боже мой, и всё-таки я жил неизречённо и огня боялся. И рифмовал счастливый звук: кизил. И палочки кизиловой касался». Что-то родственное виделось Соколову в этих стихах. Он расспрашивал Шуру о студенческой организации «Смерть Берии», о том, как проходил суд военного трибунала, что скрашивало Шурину зэковскую жизнь. Ведь целых восемь лет несвободы!