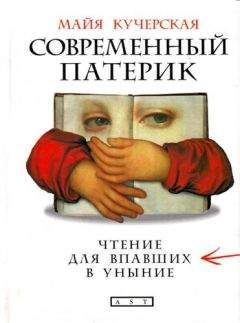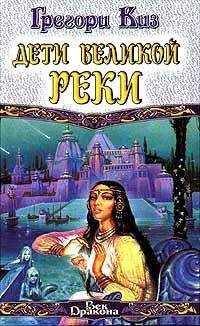Майя Кучерская - Плач по уехавшей учительнице рисования (сборник)
– Какая?
– Всякая! – Аня побежала вперед, к морю, но бег получился странный – замедленный, огромными, неровными шагами. Ее явно сносило слегка. Она бежала по песку не останавливаясь, не тормозя, Лиза невольно двинулась вслед, ей показалось: сейчас вбежит в воду прямо в куртке и джинсах. Но у самой кромки Анька остановилась, зачерпнула воду ладонью, плеснула в лицо, быстро пошла обратно.
– Лизка, – закричала она еще издалека, запыхавшись. – Лизка!
– Как водичка?
– Уже немного остыла. Елизабет, Елизабет. А хочешь, сделаем чудо? Ведь тогда ты бросишь? Хочешь, я пойду по воде? Хочешь?
– Что, прямо сейчас?
Анька замерла на миг, подумала.
– Нет, лучше, наверное, там, в Тверии. Там надежнее, да?
– Наверное. Давай лучше там!
И Лиза, взмахнув руками, продирижировала что-то невидимому оркестру. Она была в отличной форме, хорошо говорила и хорошо шла, только глаза горели ярче, белки всверкивали в темноте, и как будто еще сильней потемнела кожа, она была как негритянка сейчас.
– Лизка, знаешь что?
– Знаю.
И Лиза послушно опустила руку в рюкзак.
* * *И дальше они снова ехали в Тверию. Автобус уходил только через час. Они ждали в привокзальном кафе, совершенно безалкогольном, увы. И тайно от служителей снова и снова разливали по уже освободившимся от быстро опрокинутого сока бумажным стаканчикам прозрачную жидкость. Ели апельсин и отпивали долгими медленными глотками и потом громко-громко говорили по-английски, как две заправские американки, и было все еще мало, не хватило самую малость до полного взлета! Но кончились деньги, помнишь? И Анька все повторяла: еще бы чуть-чуть, литтл, литтл!
– Литр, литр! – подхватывала Лиза, и они хохотали.
На табло загорелись нужные зеленые буковки, прикатил их автобус. В салоне играла музыка, водитель, молодой и веселый израильтянин, подпевал радиопесням и перекрикивался с пассажирами. На макушке в черных кудрях затерялся светлый кружок кипы. Аньку так и подмывало постучать пальчиком по этой смешной макушке. И еще хотелось в туалет. «Что ж ты на вокзале, что ж ты…» – Лиза давилась смехом, все ее сейчас невероятно смешило.
За высокими окнами простиралась святая, святая земля. Чувствуешь? Да что-то не очень – темно ж. Огоньки и как будто деревни, слышишь? Собака лает. Мы вообще-то где? Говорю ж тебе, говорю ж… Лизу снова душил беззвучный хохот. Анька тоже смеялась тихо, а потом стала, кажется, засыпать, прямо на ходу, не переставая кивать Лизке и даже что-то бормоча ей в ответ. Но внезапно очнулась, пришла в себя, пробила насквозь пелену этих выкриков, всхлипов, смешков и проговорила быстро-быстро: «Вот сделаем чудо, и ты больше не будешь, да?» «Вообще ни разу, о чем разговор, ты же видишь, всё под контролем!» – отвечала Лиза сквозь смех. Свет в автобусе погасили – в темноте сверкали ее глаза. «Да в жизни больше, а главное зачем, мне и так хорошо, оч-чень, ты же видишь…» И Аня соглашалась, мотала головой, улыбалась. На них оглядывались, два низеньких человека справа давно уже хитро посматривали в их сторону, говорили что-то возбужденно на своем языке, Аня и им улыбалась, кивала, потому что мир был чарующе сладок, благоуханен, напоен, потому что они были граждане Вселенной и Господь покрывал всё, все какие хочешь тяжкие грехи, какие угодно намерения целовал, лия и лия Свою бесконечную милость, я уж не говорю про воду, серебряную воду Тивериадского моря, светлую, как луна, упругую, как дальняя дорога вдвоем. «Вот увидишь, получится, надо только не забыть снять кроссовки, только горчичное зерно», – повторяла Анька и клевала носом, но музыка у водителя не давала ей окончательно соскользнуть.
Но потом Катька, Мишкина жена, как и было обещано, встретила нас в Тверии с лицом пронзительным, детским и, опуская глаза, просила Аню завтра, лучше завтра утром ходить по воде и делать чудо. Помогла ей раздеться, повесила на вешалку пыльную куртку, дала отпить ледяного желтого сока, сводила умыть лицо в сверкающий кафель, зеркала. Анька уснула тут же, в мягкой гостиничной кровати, крепко-крепко. Лиза еще долго курила на балконе, слушала плеск воды, смотрела на лунную дорожку, улыбалась одними губами в темноту и словно беззвучно разговаривала с кем-то. А Катька думала: надо подвинуться еще чуть-чуть, а то Аньке не хватает одеяла, – и все подтаскивала ей новые одеяльные куски лунной прозрачной ночью над озером Генисарет.
...Лос-Анджелес, 1995
ПЛАЧ ПО УЕХАВШЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ РИСОВАНИЯ И ЧЕРЧЕНИЯ
Больше всего это напоминало ржавый штырь. Воткнутый в сердце.
Штырь медленно поворачивала рука. Он был с резьбой. Она кричала. Нет, оно.
Уехала вдаль. Вот по ней. Умчала. В горы высокие еленем. В камень прибежище заяцем. На желтом в черную клетку коне. На воздушном шаре в быстром крепком ветру. На деревянном ероплане, тр – в горькую синеву небес.
Ее измученность, ее старенькость, истерзанность ее – вот что мучило сердце – раз.
Ее отсутствие, вот что – два.
Много, много жизней, прожитых ею, среди них и моя – три.
Вынужденность любви к ней – вот что четыре!
Это был не тот вольный ветер, что спархивает с облака вон того, похожего на растрепанную от изумления лошадь, и не с листвы вершин, ввысь вознесенных, нет. Это была любовь, выведенная в пробирке, вдруг вспыхнувшая и разорвавшая в стеклянные брызги всё. В звонкой пахучей колючей стеключей лаборатории твоей вывела ее ты. И незаконное ее происхождение приносило дополнительную муку. Умышленность, вот.
Приезжай скорее и все-все мне объясни.
Приходи, любимая, и все сделай прозрачным. Почему мне больно каждый день? Зачем этот штырь? Что это? Возвращайся.
Май месяц – время мыть окна. Набирать тугую воду, бросать синие плески в мутное стекло. Возить сладко длинной палкой, резиной упрямо скрипеть.
Давай только сначала поправим твое лицо – уберем из него усталость прожившей пятьдесят две тысячи триста девяносто четыре и семь двенадцатых жизней – детских, взрослых, юных, молодых, средних, старых.
Вот теперь можно и поговорить.
Что, рассказать тебе, что я нашла перед твоим отъездом под зеркалом у нас в коридоре? Конверт! И знаешь, что на нем было написано простым карандашом, в уголке, почти незаметно? «М.А.» Он был заклеен, но лежали в нем – я посмотрела на свет – деньги! Уж не для тебя ли, любовь моя?.. Краснеешь? Да расслабься! Тебе крупно повезло, те же инициалы у моей мамаши, так что, возможно, наоборот, это ей кто-то передал. Не знаю. Почерк по двум буквам не определишь, тем более они слабые, карандашные… И все-таки, думаю, это предназначалось тебе. Конверт за услуги – типичный мамашин стиль. Ты – продажная, любовь моя!
И тем, кто к тебе приходит, за плату такую или побольше, ты отдаешь свою душу, в форме виолончели она. Чтобы вдвоем поиграть. По необходимости подкручиваешь еще винтом-штырьком, подкалываешь иголочкой, сыграв, дуэт-другой… Уходишь. Во сне. Пока они спят, одурманенные, твои пациенты, и ты, даже не осенив – нельзя, разбудишь! привяжешь больше, чем след! – не осенив их лиц поцелуем, беззвучными шагами улетаешь в окно.
Ты сон их предутренний, сочный, цветной. Ткни пальчиком – потечет краска. Апельсиновая и малиновая, хочешь, лизни?
Ты их мечта самая выстраданная.
Ты – живое страдание. Их.
Ты…
Святая. Мария Магдалина имя тебе. Смотрела Мэла Гибсона фильм?
Красный тюльпан зацвел на школьном огороде. Я сказала – вот так мак! А ты ответила – это тюльпан! Я – мак!!! Ты – хорошо, мак, превратившийся в тюльпан. А я – ночью? Ты – всегда! А я – нет, на рассвете. Все хорошее случается на рассвете. А ты – нет, на рассвете наступает прощание. Ха! Проговорилась, Мария Олеандровна.
Разворотило, разворошила.
Ты разворотила меня. Он оставил на столе своей мастерской одну книгу, я сдула с обложки опилки, странно она называлась – «Лолита». Раскрыла, и сразу же: « Ты разворотил у меня что-то внутри».
После чего мы и переехали в другой город. Мама вышла замуж. За коротышку, ниже ее на полголовы. Он нашел там работу. И мы переехали в город Другой.
Все совпало. Мама сказала: чудесно! Как же вовремя. Иначе уже не знала, что и делать, куда отсюда бежать. От проклятого этого ДК. Я только рыдала не вслух.
А тут ты.
И снова мама: надо же, вот ведь удачно. У нас ты вела черчение, у младших – рисование, но по совместительству была еще и психолог школы ! Говорили, что ты и где-то еще в нешкольной жизни пользовала людей странными средствами, учила их видеть. Моя профессия – учить видеть. Так ты сказала. Меня сразу же затошнило тогда.
Но ты уже положила на меня глаз. Я тебе понравилась, да, Малендра? Увидела?
Сначала ты все повторяла – тебе никто не говорил, у тебя талант? Талант к цвету? Ты различаешь оттенки. Тебе надо рисовать. Приходи. Вы, что ли, кружок ведете такой (это я спросила; сдалась она мне, эта бабуля-хромоножка)? Помнишь, что ты ответила? Веду. Кружок. Но заниматься в нем будешь только ты. Одна. Индивидуально!