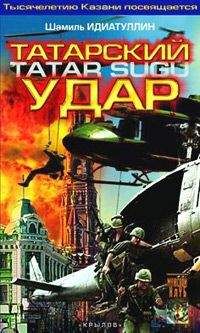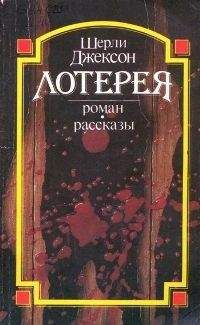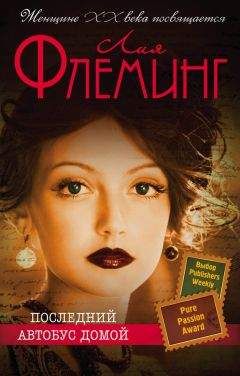Шамиль Идиатуллин - Город Брежнев
– А ты?
– А я кусаю.
Марина замерла на секунду, засмеялась и пообещала, не отвлекаясь от процедур с кипятком:
– Буду иметь в виду.
– Иметь, – мечтательно протянул Виталик, старательно глядя в потолок.
Марина со вздохом сказала:
– Виталь, ну не смешно уже. Что ты как… не знаю, как Валерик.
– А что Валерик? – с интересом спросил Виталик, снова садясь.
– А то ты не знаешь. Или шутит вот так, или смотрит глазками несчастными и вздыхает. Или выпендриваться начинает.
– Как выпендриваться?
Марина махнула рукой.
– Кстати, – как будто вспомнил Виталик. – Я ж Валерку просил объяснить тебе все, ну, куда я делся, все такое. Не сказал ничего?
Марина пожала плечом.
– Во чуморылость, – сказал Виталик расстроенно. – А вообще, кстати, как он вел-то себя? Про юмор я понял.
– Ну, скажем так, для Валерика – вполне достойно.
– Понял. Ладно, пусть живет. Чего ржешь?
– Про «пусть живет» удачно вышло. Валерик мне все втолковывал, что ты на самом деле псих и убить кого-то пытался, выслеживал полдня, чудо спасло человека. Просто детектив про сыщиков. Сам, говорит, рассказал – ты рассказал, в смысле.
– Во дебил пьяный, – сообщил Виталик.
– Он трезвый был. Ладно, иди чай пить. Ой. Ну штаны-то хоть надень.
– Думаешь, без штанов вытечет все? – озабоченно спросил Виталик, придирчиво осматривая себя, но понял, похоже, что Марину это не веселит, буркнул: «Училка, блин» – и ловко влез в джинсы. – За это мне три ложки.
– Ой, – сказала Марина виновато. – А сахара нет.
Она забыла, что Виталик пьет только сладкий чай. Очень сладкий. А когда психует, соль лижет, будто лось.
– Ну и ладно, – буркнул Виталик и быстро переставил тумбочку к койке, ловко так, без стука, скрипа и урона сосудам.
Правильно, а то Марина собиралась стоя пить. Она решительно сказала:
– Пойду у соседей попрошу.
– Да ну на фиг, неудобно.
– Господи, чего неудобно, по-соседски-то. Нам здесь жить всем, надо же по-человечески. Сегодня они мне дадут, завтра я им дам.
– Ух ты, – сказал Виталик.
Марина качнула головой и отрезала:
– Дурак.
И спохватилась:
– Ой. Слушай, а сахар-то не по талонам еще?
– Вроде нет, если летом не ввели.
– Ну и все, значит, – решительно сказала Марина. – Вечером куплю – верну. Не обеднеют, ты ж сам говоришь – крутая общага.
– По сравнению с моей – уж точно.
– Хм. Ладно, я быстро.
Быстро не получилось. Марина обстучала все двери блока – сперва робко, потом смело и громко. Никто не открыл. Шагать по лестнице очень не хотелось. Это, конечно, не выход в свет, но одно дело – когда бегаешь в халатике на голое тело в двух шагах от двери, другое – когда до этой двери десятки шагов и лестничный пролет. Ладно, ты по студенческой общаге в одном полотенце пять этажей скакала, напомнила себе Марина. Память услужливо подсунула курганчик воспоминаний о других общажных свершениях, в том числе тех, мимо которых Марину счастливо пронесло. Какого черта, подумала она сердито. Это мой дом, я теперь здесь живу и буду жить долго и счастливо, с любимым, а через три года получу квартиру от любимой работы и рожу девочку, хотя можно и мальчика. А чай к тому времени остынет и высохнет, Виталик тем более. Вот дура мечтательная. Пошла-пошла.
Просить сахар у комендантши не хотелось, поэтому Марина поднялась на седьмой этаж. Там тоже было пусто и безнадежно. Марина прошла по коридору постучала в пару дверей, оглянулась на следы, которые оставляла в белых разводах на полу, четкие и единственные, и со вздохом поняла, что надо карабкаться выше. Тем более что Челентано уже требовал, чтобы ему дали щепотку соли. А где соль, там и сахар.
На седьмом с половиной этаже пол был не белым, а просто грязным, пахло кислой едой и окурками, зато дверь пятой комнаты была приоткрыта, из щели сочился Челентано. Марина решительно промаршировала до двери и постучала. Дверь чуть отошла. Марина поморщилась от запаха, который, получается, шел в основном из этой комнаты, и подумала, что, может, черт уже с этим сахаром. Но тогда получится, что зря ходила.
За дверью зашуршали. Марина поспешно сказала:
– Простите, я соседка. У вас сахару не найдется до вечера, немножко совсем?
Челентано глушил негромкие звуки, и Марина не могла разобрать, то ли ей отвечают вполголоса, то ли просто шуршат и булькают. Она неуверенно оглянулась на нечистый пустой коридор, пожала плечами, толкнула дверь и вошла.
Комната была темной и мусорной, почему-то на четыре койки, как в обычной общаге – три постели помяты, четвертая раскидана и с одеялом на полу. Пахло мерзко. Под окном, наполовину затянутым явным покрывалом и потому неярким, вместо традиционного стола стояли забросанные мужскими шмотками стулья. Традиционный стол прятался сразу за дверью – накрытый грязной клеенкой, уставленный пивными бутылками и стаканами с окурками. Они плотно обставили огромный катушечный магнитофон, чудом не цепляя тускло поблескивающие на оборотах бобины. Звук, правда, шел не от магнитофона, а из-под окна – видимо, где-то под стульями и хламом прятались колонки.
За столом сидел дядька. Вернее, парень, плешивый просто. Сидел и медленно помешивал ложечкой в стакане – для разнообразия не с окурками, а с чаем. Развязанный полиэтиленовый пакет с сахарным песком расселся между стаканом и ножом. Нож был коротким, но выглядел очень опасно – с тонким светлым лезвием и полосатой наборной ручкой, кончик которой утонул в кучке соли, высыпанной на смятую газету.
Челентано перешел в Кутуньо, плешивый поднял глаза, и Марина остро поняла, что надо уходить. Парень был пьян в уматину.
Марина виновато улыбнулась и попыталась сделать шаг назад, но наткнулась на ребро двери и замерла, нащупывая ее рукой. Поворачиваться к плешивому спиной почему-то не хотелось.
– Я просто сахар хотела, – пробормотала Марина, не слыша себя: вокруг оркестровал Кутуньо, в ушах грохотало сердце. – Простите, я, наверное, потом.
Плешивый заулыбался, неловко, но быстро подцепил пакет с сахаром и вскочил. Зубы у него были удивительно белыми, может, из-за темного лица. Он протянул Марине пакет, из которого сыпанулась струйка песка, и чуть качнулся.
– Да мне пару ложек только, – сказала Марина. – Может, в бумажку насыпать…
Плешивый качнул вытянутой рукой – мол, бери. С торчащего носиком края пакета снова упала короткая белая струйка.
– Спасибо, – сказала Марина, решившись, – тогда я на минутку возьму и сразу отдам.
Она подхватила пакет, и тут же стало больно, а белозубая плешь напрыгнула вплотную: плешивый вцепился Марине в запястье. Марина дернулась, пытаясь освободиться, и плешивый сильно толкнул ее. Марина больно ударилась затылком и лопатками о ребро двери, дверь громко захлопнулась, Марину бросило на нее – а плешивый уже прижался, мял грудь, вонял пивом, водкой и табаком, слюнил губы.
Марина задохнулась от ужаса и возмущения, попыталась вскрикнуть и оттолкнуть гада. В голове вспыхнуло, пол с треском и цоканьем ушел из-под ног, и Марина повалилась в пропасть. Пропасть оказалась мелкой, но болезненной – спинка кровати пнула в бедро, макушка ширкнула о стену, и Марина обнаружила, что уже лежит спиной поперек кровати, голова кружится, скула горит, халат распахнут и сверху тяжело и мерзко валится мутный от слез силуэт.
Она дернулась, снова ударившись головой о стену, немножко от этого обалдела, а плешивый уже впихивал холодную руку, растаскивая колени, которые Марина успела сомкнуть. Оттолкнуть гада не получалось – тяжело, и руки чем-то заняты, – вообще ничего не получалось, даже дышать: плешивый придавил горло локтем. Убьешь ведь, дурак, подумала Марина недоуменно.
Это, наверное, какая-то местная шутка, специально для новичков. Сейчас он встанет, засмеется, показывая белые зубы, извинится и поздравит с пропиской. На самом деле такого быть не может. Нельзя так с живыми людьми. То есть с людьми случаются страшные вещи, но не со мной. Я ничего плохого не сделала, я просто сахар зашла попросить. И вообще, я же здесь живу, не дурак же он, его же посадят, это до пятнадцати лет.
– Пусти, дурак, посадят! – прохрипела она.
Плешивый на секунду убрал локоть с горла и снова ударил Марину кулаком в щеку.
Не очень больно, но обидно – деловито так, как вылезший из строя столбик в заборе. Он ведь и убьет так же, подумала Марина, заливаясь слезами под деловитое «Лошадку мы катали», и вдруг осознала, что понимает слова, что Кутуньо не про лошадку рассказывает, а просит позволения спеть под гитару. Он просит, красивый и жгучий, а Марину бьют.
Ее никто никогда не бил, если Веронику не считать, но это в детстве, и не кулаком в лицо ведь. Нельзя ведь девочек, тем более кулаком, тем более в лицо. Плешивому, получается, можно. Значит, ему можно все – пока он сильней. А он сильней, так что надо просто тихо лежать и перетерпеть. Почти все через это прошли, и все терпят, Вероника говорила, отряхнемся, поплачем и дальше идем, а я-то чем особенная? Противно, но не смертельно.